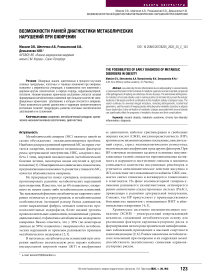Возможности ранней диагностики метаболических нарушений при ожирении
Автор: Максим О.В., Шевченко А.В., Ромашевский Б.В., Демьяненко Н.Ю.
Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center
Рубрика: Обзоры литературы
Статья в выпуске: 2 т.20, 2025 года.
Бесплатный доступ
Обширные знания, накопленные в процессе изучения сложных гуморальных, клеточных и тканевых изменений при ожирении, позволяют с уверенностью утверждать о взаимосвязи этих изменений с широким кругом соматической, в первую очередь, кардиоваскулярной, патологии. Низкоинтенсивное хроническое воспаление считается основой формирования метаболических изменений при большом количестве неинфекционных хронических заболеваний, к которым относится и ожирение. Поиск возможности ранней диагностики и коррекции низкоинтенсивного воспаления позволит предупредить развитие ключевых метаболических заболеваний и их осложнений.
Ожирение, метаболический синдром, хроническое низкоинтенсивное воспаление, диагностика
Короткий адрес: https://sciup.org/140309992
IDR: 140309992 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_2_123
Текст обзорной статьи Возможности ранней диагностики метаболических нарушений при ожирении
Актуальность
Метаболический синдром (МС) является одной из самых обсуждаемых междисциплинарных проблем. Наиболее распространенной причиной МС по праву считается ожирение, являющееся независимым фактором риска артериальной гипертензии, ИВС, сахарного диабета 2 типа, жировой неалкогольной (метаболической) болезни печени, некоторых видов опухолей и другой патологии [1]. Общепринятым клиническим показателем, предполагающим возможность развития у пациента МС, является абдоминальное ожирение.
Не прекращается поиск критериев, позволяющих прогнозировать развитие метаболических нарушений при ожирении. Известно, что до 6% пациентов с ожирением не имеют каких-либо метаболических изменений. Так называемый фенотип метаболически здорового ожирения отличается и структурными, и метаболическими особенностями (меньший размер белых адипоцитов, менее выраженный фиброз, меньшее количество про-воспалительных макрофагов, более низкий уровень провоспалительных адипокинов, повышенный уровень адипонектина) от фенотипа метаболически нездорового ожирения. Важно отметить, что у 30% (по некоторым данным до 50%) пациентов с ожирением без метаболических нарушений со временем развиваются признаки метаболического нездоровья [2; 3].
В патогенезе метаболических изменений при ожирении наиболее значительную роль играют избыток висцеральной жировой ткани (ЖТ) и дисфункция ее адипоцитов, избыток триглицеридов и свободных жирных кислот (СЖК), инсулинорезистентность (ИР), хроническое низкоинтенсивное воспаление, окислительный стресс, стресс эндоплазматического ретикулума, эндотелиальная дисфункция и ряд других факторов. При ИР ключевые изменения касаются основных инсулинзависимых тканей: снижается тирозинкиназная активность и нарушается поступление глюкозы в миоциты; уменьшается количество инсулиновых рецепторов и угнетается антилиполитическое действие инсулина в ЖТ, вследствие чего накапливается избыток СЖК; снижается синтез гликогена и активируется гликогенолиз в гепатоцитах. На фоне компенсаторной гиперинсу-линемии развивается симпатикотония, активируется ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС), приводящая к развитию артериальной гипертензии. Считают, что ИР присутствует у преимущественного большинства пациентов с повышенным ИМТ и абдоминальным ожирением [4; 5].
Хроническое системное низкоинтенсивное воспаление (ХСНВ) – универсальный повреждающий механизм, создающий метаболическую основу для реализации факторов кардиоваскулярного риска и формирования целого ряда хронических неинфекционных заболеваний, приводящих к высокой смертности и инвалидизации [2; 6]. Раннее выявление метаболических изменений при ожирении и их коррекция может способствовать значительному снижению кардиоваскулярных рисков.

Патогенез метавоспаления при ожирении
Воспаление рассматривается как типовой патологический процесс, инициаторами которого могут служить гипергликемия, диспротенемия, бактериальные липополисахариды (LPS) и патоген-ассоциированные молекулярные структуры (PAMPs). Участниками воспаления являются также, ассоциированные с повреждением тканей алармины (ядерный белок HMGB1), кальций-свя-зывающие белки S100, белки теплового шока, мочевая и гиалуроновая кислоты, фибриноген и др. Индукторы воспаления связываются с белками-рецепторами, такими как Тoll-подобные рецепторы (TLRs), и активируют клеточные биологические реакции [1; 7].
Адипоциты представляют собой не только депо липидов. Они регулируют поглощение и высвобождение жирных кислот; являются участниками цикла глицерин– жирные кислоты; продуцируют лептин и другие адипо-кины, регулирующие энергетический баланс организма; продуцируют ряд цитокинов, оказывающих эндокринное, паракринное и аутокринное действие. Постоянное поступление избытка пищевых нутриентов способствует развитию адипозопатии. С увеличением массы ЖТ при ожирении возникает повышенная экспрессия лептина, интерлейкинов (ИЛ-6, ИЛ-8), белка-хемоаттрактанта моноцитов 1 (MCP-1) и гранулоцитарного колониестимулирующего фактора, вследствие чего в ЖТ привлекаются макрофаги фенотипа М1, инициирующие высвобождение провоспалительного фактора некроза опухоли α (TNFα). Следствием адипозопатии является местный и системный воспалительный процесс [7; 8].
Метаболическую активность определяет не столько вид адипоцитов в жировых депо различных локализаций, сколько их «ниша» – совокупность сосудистых, нервных структур, клеток-предшественников адипоцитов, перицитов и иммунных клеток, обеспечивающих микроокружение жировых клеток. Внеклеточный матрикс, в состав которого включены различные виды коллагена, фибронектин, ламинин, протеогликаны, полисахариды и др. – сложная структура, участвующая в модуляции биологической активности адипоцитов, обеспечивающая ремоделирование и функционирование ЖТ. В зависимости от условий предшественники адипоцитов могут менять свою программу дифференциации от адипогенеза к фиброгенезу при непосредственном участии Тoll-подобных рецепторов, активность которых регулируются провоспалительными факторами. Все это приводит к пролиферации фибробластов и снижению пластичности ЖТ. Гипертрофическое ожирение, нарушение пластичности ЖТ и, как следствие, адипозопатия способствуют формированию такого микроокружения адипоцитов, в котором они начинают избыточно секретировать провоспалительные цитокины и хемокины, приводящие как к изменению состава иммуноцитов, к активизации поступления циркулирующих моноцитов и других иммунных клеток из крови в ЖТ. Фиброз внеклеточного матрикса ЖТ способствует эктопическому отложению жира. Считают, что триггерами ХСНВ (так называемого системного метаболически индуцированного метавоспаления) при ожирении являются гипоксия и механический стресс адипоцитов, избыточное содержание СЖК и липополисахаридов [5; 7; 9].
Секретируемые висцеральной ЖТ провоспалитель-ные цитокины (TNF-α, ИЛ-6 и MCP-1), могут активировать сигнальные пути транскрипционного ядерного фактора NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B-cells) и JAK/STAT (Janus kinase/signal transducer и activator of transcription), вызывая воспаление в нежировых тканях [5].
Митохондриальная дисфункция, вызванная изменением биогенеза митохондрий и окислительным стрессом при накоплении активных форм кислорода (АФК), влияет на физиологию адипоцитов. Повреждение митохондрий снижает выработку клеточной энергии, накапливаются промежуточные продукты метаболизма, что усиливает нагрузку на эндоплазматический ретикулум [9].
Негативное влияние на метаболические процессы оказывает также уменьшение массы бурой ЖТ – уникальной структуры, активирующейся влияниями симпатической нервной системой, которая участвует в мобилизации и окислении жирных кислот. Для бурой ЖТ характерно наличие многоклеточных липидных капель, повышенное содержание митохондрий и экспрессия разобщающего белка 1 (UCP-1), стимулирующего прекращение переноса электронов и выработки тепла. Содержание бурой ЖТ у человека отрицательно коррелирует с возрастом и наличием ожирения. При анализе результатов позитронно-эмиссионного (ПЭТ) сканирования выявлено, что у лиц, у которых была визуализирована бурая ЖТ, реже встречался СД2, дислипидемия и кардиоваскулярные заболевания [10].
Пациенты с ожирением имеют высокий риск развития карбонильного стресса, формирующийся при интенсификации процессов перекисного окисления липидов и процессов, активирующихся при гипергликемии (гликолиз, полиоловый и гексазаминовый пути) [11].
Повышение активности РААС в ЖТ, является еще одним механизмом, способствующим поддержанию хронического воспаления, за счет увеличения выработки АФК и окислительного стресса. В свою очередь, АФК и провоспалительные адипокины приводят к ИР, ухудшают процессы сосудистой реактивности, способствуют развитию гипертрофии, фиброза и ремоделирования сердечнососудистой системы [4]. Повышенное содержание СЖК в крови при ожирении способствует экспрессии фактора роста эндотелия сосудов-А (VEGF-A) [5].
В аспекте метаболических нарушений изучается роль регуляторных факторов интерферона (IRF), представляющих собой семейство транскрипционных факторов, осуществляющих интеграцию реакции на стресс, в первую очередь связанный с инфекцией и воспалением. IRF опосредуют ключевые аспекты метаболизма при ожирении, СД2 и неалкогольном стеатозе печени, воз-

действуют на иммунные клетки, изменяют транскрипцию в паренхиматозных клетках (адипоциты, гепатоциты, миоциты и нейроны). Представляет интерес, что для IRF3 выявлено провоспалительное влияние, способствующее ожирению, ИР и стеатозу печени, а для IRF4 – противовоспалительное, играющее важную роль в адипогенезе, липолизе и термогенезе в ЖТ [12].
Иммунная дисфункция, ассоциированная с ожирением, касается как гуморального, так и клеточного иммунитета: наблюдается угнетение Т-клеточного звена лимфоцитов, нарушение дифференциации макрофагов, нарушение хемотаксической активности нейтрофилов, нарушение продукции ключевых адипокинов [13].
Известно, что рецепторы лептина, экспрессирующиеся на Т- и В-лимфоцитах, могут оказывать модулирующие влияния на опосредуемые иммуноцитами иммунные реакции [13]. Дисфункция адипоцитов при ожирении характеризуется повышением уровня про-воспалительных лептина, ИЛ-6, наряду со снижением противовоспалительных маркеров – адипонектина и ИЛ-10 в крови [14].
Адипонектин – ключевой адипокин, продуцирующийся адипоцитами, кардиомиоцитами и эндотелиальными клетками. Адипонектин участвует в регуляции липидного обмена: его рецепторы AdipoR1 и AdipoR2 опосредуют метаболические процессы и накопление липидов в макрофагах при атеросклерозе. Он оказывает антиапоптическое, антиоксидантное, противовоспалительное и противофиброзное действие [15].
Изменения адипокинового профиля в крови при ожирении способствует формированию эндотелиальной дисфункции, нарушению эластичности артерий и избыточной жесткости сосудистой стенки. Такие изменения характерны для сосудистого старения, являющегося отдельным фактором риска кардиоваскулярной патологии [16].
Известно, что атеросклероз прогрессирует в условиях избытка провоспалительных ИЛ-6 и TNF-α, а также про-атерогенного ИЛ-1β. Считают, что ИЛ-6 является биомаркером эндотелиального воспаления и значимым фактором кардиоваскулярного риска [14]. Избыток ИЛ-1β ассоциирован с высоким риском атеросклероза, а его недостаток, напротив, сдерживает прогрессирование атеросклеротического процесса [16].
Эктопическое накопление липидов в миоцитах, гепатоцитах, клетках сосудов и β-клетках может привести к образованию токсичных продуктов метаболизма липидов (например, диацилглицерины или керамиды), которые запускают ряд патологических клеточных реакций, приводящих к развитию резистентности к инсулину. Действительно, некоторые данные свидетельствуют о том, что неспособность увеличивать жировую массу в ответ на переедание может быть важным фактором развития ИР. Кроме дисфункции абдоминальной ЖТ в развитие компонентов МС активно обсуждается роль эктопических жировых депо: эпикардиальной и периваскулярной
ЖТ – в качестве индукторов атерогенеза, дисфункции миокарда [15], жирового гепатоза – в метаболических изменениях при СД2 [4], паранефральной ЖТ – в нарушении функции почек [17]. Оценить значимость вклада локальной эктопии ЖТ в метаболическое нездоровье достаточно затруднительно: результаты исследований противоречивы, так как гистологическая оценка метаболической активности адипоцитов отдельных жировых депо имеет значительные ограничения.
Воспалительные сигнальные пути, участвующие в модуляции хронического воспаления в ЖТ продолжают активно изучаться. Экспериментальные данные позволяют предположить, что провоспалительная сигнальная система не является абсолютно патогенной при ожирении – ХСНВ рассматривается и как защитный механизм, снижающий риск развития дисфункции адипоцитов. Индуцированный воспалением липолиз необходим для высвобождения энергетических ресурсов во время стресса и развития инфекционного процесса. По данным литературы, в некоторых случаях нейтрализация провоспалительных путей, активируемых TNF-a, ИЛ-1 или ИЛ-6, усугубляет метаболические осложнения, а дефицит фактора, ассоциированного с рецептором фактора некроза опухолей, может предотвращать прогрессирование ожирения путем индукции липолиза [18].
Провоспалительные изменения, характерные для метаболических изменений при ожирении и СД2, могут быть обусловлены активностью М1-макрофагов, активированными избытком СЖК посредством рецепторов врожденного иммунитета TLRs (Toll-like receptors). Известно, что экспрессия TLR4 в периферических моно-нуклеарных клетках уменьшается при снижении веса у лиц с МС. Воспаление жировой ткани, опосредованное TLR2/4, играет ключевую роль в активации РААС [44]. В частности, гипеурикемия, являясь компонентом МС, может приводить к активации РААС за счет способности мочевой кислоты регулировать активность РААС в адипоцитах [18].
Пуринергическая сигнальная система играет важную роль в регуляции ряда физиологических процессов, включая энергетический обмен и иммунные реакции. Избыточное накопление внеклеточного АТФ в ответ на метаболический стресс оказывает влияние на процессы системного воспаления вследствие активации пури-нергической сигнализации через рецепторы P2X, P2Y и аденозина, способствуя развитию и прогрессированию метаболической патологии [19].
Учитывая ключевую роль ИР в формировании метаболических изменений при ожирении, продолжается поиск вариантов ее раннего выявления. Так, в 2007 г. предложен расчетный индекс ИР с участием адипонектина (HOMA-AD), отражающий соотношение традиционного индекса НОMA-IR и адипонектина в крови. Превышение HOMA-AD более 0,95 предлагается считать критерием ИР [20].

Предлагается также оценивать параметр метаболического индекса (МИ), учитывающего параметры и углеводного, и липидного обмена: МИ = ТГ (ммоль/л) х глюкоза (ммоль/л) / ХС-ЛПВП (ммоль/л). Предлагается диагностировать ИР при МИ более 7,0 [20].
Спорные вопросы диагностики ожирения
Избыток висцеральной ЖТ невозможно достоверно оценить с использованием антропометрических показателей. Общепринятые параметры – индекс массы тела (ИМТ) и объем талии (ОТ) не отражают в ряде случаев анатомических изменений. В рутинной практике ожирение диагностируют, если ИМТ превышает 30 кг/м2 [4; 20]. Основное ограничение использования ИМТ как критерия ожирения – недооценка параметров мышечной массы. При одинаковых показателях ИМТ обследуемые лица могут иметь совершенно разное состояние здоровья и факторы кардиоваскулярного риска.
Принято считать, что главным критерием висцерального ожирения, ассоциированного с метаболическими нарушениями, является увеличение ОТ более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин [21]. Однако ОТ отражает не только количество висцерального жира, но и толщину инертной подкожной ЖТ поясничной области, передней брюшной стенки, забрюшинной ЖТ, что может привести к гипердиагностике висцерального ожирения [4].
Более информативным в оценке висцеральной ЖТ считают отношение объем талии/объем бедер (ОТ/ОБ), отражающее параметры подкожной ЖТ на уровне талии и бедра. При ожирении отмечают увеличение показателя ОТ/ОБ более 0,9 для мужчин и 0,85 для женщин. Сопоставление показателей ОТ и ОТ/ОБ позволяет выделить метаболически нездоровые варианты абдоминального ожирения, особенно в случаях, когда ИМТ еще не повышен. По результатам исследований NHANES III и MONICA учет этих показателей помогает верифицировать абдоминальное ожирение при нормальном ИМТ у 14% обследованных, а при повышенной массе тела – до 25% [22]. Отмечено, что повышение отношения ОТ/ОБ ассоциировано с высоким кардиоваскулярным риском независимо от ИМТ у пациентов с ИБС [23].
В 2012 г. предложено оценивать показатель индекса формы тела (ABSI), показывающий соотношение ОТ, роста и веса, отражающий количественную характеристику формы тела [24]. Чем выше ABSI, тем выше доля висцерального жира. Нормальный уровень ABSI для мужчин принят в диапазоне 0,078–0,089, а для женщин – 0,084–0,094. Значение ABSI выше 0,11 указывает на высокий риск развития метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом индекс ABSI, рассчитанный методом антропометрии и биоимпедансо-метрии для лиц молодого и среднего возраста, не имеет статистически значимых различий [25].
По результатам британского исследования HALS сделаны выводы, что индекс ABSI превосходит антропометрические методики выявления ожирения (ОТ и отношение ОТ/ОБ), а его 7-летняя динамика показала, что повышение показателя коррелирует с риском преждевременной смерти [26]. ABSI превзошел ИМТ и ОТ в прогнозировании смертности от всех причин, но уступил в прогнозировании развития хронических неинфекционных заболеваний. Использование ABSI в клинической практике ограничено в связи с отсутствием стандартизированных популяционных референсных значений.
В 2013 г. (Thomas DM et al.) была предложена оценка индекса округлости тела (BRI) в качестве альтернативы ИМТ [28]. BRI более точно отражает распределение ЖТ, меньше зависит от пола и возраста. По мнению авторов, BRI демонстрирует отличную прогностическую способность для выявления МС. Предлагается рассматривать у мужчин пороговые значения BRI для диагностики избыточного веса 5–5,5, для ожирения >5,5 (у женщин для избыточного веса – 4,5–5, при ожирении >5 [28].
Относительно новым (Amato MC, et al., 2010 г.) методом оценки абдоминальной ЖТ является индекс висцерального ожирения (ИВО). Он является маркером дисфункции висцеральной ЖТ, показавшим значимую взаимосвязь с кардиоваскулярным риском как в общей популяции при отсутствии явных метаболических изменений, так и у пациентов с СД2 [29]. При расчете ИВО учитываются антропометрические (ИМТ и ОТ) и метаболические показатели (уровень триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛВП)). У человека с нормальным ИМТ, отсутствием висцерального ожирения и нормальным уровнем ЛВП и ТГ показатель равен 1. Увеличение данного показателя свидетельствует о существенном повышении кардиоваскулярных рисков [20; 29].
В отличие от ключевых антропометрических методов оценки абдоминального ожирения (ИМТ, ОТ, ОБ, ОТ/ОБ) индекс ИВО коррелировал с уровнем адипоки-нов, липидными показателями, маркерами воспаления, с эндотелиальным фактором роста. По данным исследователей, индекс ИВО в наибольшей степени коррелировал с клинико-метаболическими показателями, в отличие от других методов оценки ожирения, и только он достоверно отрицательно коррелировал с уровнем адипонектина [30].
Наиболее информативными методиками для визуализации эктопии жировой ткани считается использование лучевых методов диагностики. Результаты, полученные томографическими методами КТ и МРТ, помогают дифференцировать висцеральную ЖТ, подкожную ЖТ и их соотношение. Площадь висцеральной ЖТ, превышающая 117 см2, отражает высокий риск сердечно-сосудистых осложнений при ИР. Применяются попытки применения сонографической диагностики для установления висцерального ожирения. Считают, что стандартная ультразвуковая методика диагностики висцерального ожирения сопоставима с томографическими методами (КТ, МРТ). Критерии висцеральной ЖТ и соотношение висцеральной/подкожной ЖТ коррелируют с показателя-

ми углеводного обмена (гликемия, инсулинемия, индекс инсулинорезистентности) и липидного обмена (ЛПНП, ЛПОНП), а показатель толщины предбрюшинного жира (для висцерального ожирения этот показатель обычно превышает 16,4 мм) коррелируют только с показателями углеводного обмена (уровень гликемии). Предложен к применению алгоритм лучевого исследования висцерального ожирения при избыточной массе тела, позволяющий заподозрить наличие метаболических нарушений и оценить степень кардиоваскулярного риска [31; 32].
Оценка толщины висцеральной ЖТ с дифференцированным ультразвуковым измерением толщины абдоминального подкожного и висцерального компонента показало прямую корреляцию с МС и гипертриглицеридемией, при этом показатели ОТ и толщины подкожной ЖТ не показали такой взаимосвязи [32].
Отмечено, что преобладание висцеральной составляющей ЖТ над подкожной является значимым фактором риска развития церебрального атеросклероза при СД2 вне зависимости от абсолютных объемов ЖТ [33].
По данным ряда исследователей критерием висцерального ожирения считают площадь висцеральной ЖТ более 130 см2 (Lemieux S. и др. 1996 г.), однако уже при увеличении площади более 100 см2 значительно повышается кардиоваскулярный риск (Despre`s JP, Lamarche B, 1993 г.). Еще больше информации о повышении кардиоваскулярного риска дает соотношение площади подкожной и висцеральной абдоминальной ЖТ более 0,4 [34]. Выявлена прямая корреляция между толщиной висцеральной ЖТ по ультразвуковым данным и площадью висцеральной ЖТ, по данным КТ на уровне позвонка LIV [31].
Продолжается поиск количественных параметров, позволяющий прогнозировать кардиоваскулярный риск у пациентов с ожирением. Метод МРТ не уступает КТ в верификации и количественной оценке интраабдоми-нальной висцеральной ЖТ [31], а также эпикардиальной ЖТ (ЭЖТ) [35]. Выявлено, что в отсутствие СД2 у мужчин толщина ЭЖТ, визуализированная при МРТ, может служить маркером МС и ассоциирована с площадью висцеральной ЖТ и ОТ [31]. Выявлена корреляция толщины ЭЖТ и артериальной гипертензией [34].
Вклад эктопических жировых депо в формирование метаболических изменений, учитывая возможности аутокринного и паракринного влияния адипоцитов на окружающие ткани, считается наиболее значимым.
В числе критериев кардиоваскулярного риска при ожирении предлагается оценивать толщину ЭЖТ. Это уникальное депо висцерального жира, располагающееся между эпикардом и миокардом, что обеспечивает возможность частичной пенетрации ЖТ в ткань миокарда. Выделяют перикоронарную (на адвентиции коронарных артерий) и миокардиальную ЭЖТ (между висцеральным перикардом и миокардом преимущественно за правым желудочком, в атриовентрикулярной и межжелудочковой бороздах). ЭЖТ расположена непосредственно на ткани миокарда, имеет единую с ним систему микроциркуляции, что обеспечивает паракринные влияния адипо-кинов непосредственно на кардиомиоциты и клетки коронарных сосудов [35; 36]. Считают, что ЭЖТ обладает меньшей скоростью утилизации глюкозы и в большей мере способна захватывать СЖК в сравнении с другими жировыми депо [33].
По результатам исследования The Heinz Nixdorf Recall Study установлено, что увеличение объема ЭЖТ связано с частотой фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий у лиц среднего возраста [37]. В качестве критерия избытка эпикардиального жира предлагается считать толщину ЭЖТ ≥5 мм для лиц моложе 45 лет (≥6 мм для лиц 45–55 лет, а также ≥7 мм для лиц старше 55 лет) [38].
Еще больший интерес в оценке кардиоваскулярных рисков представляет периваскулярное жировое депо (ПВЖТ), имеющее возможность непосредственного влияния на процессы атерогенеза. К ПВЖТ относят скопление адипоцитов вокруг аорты, коронарных и почечных артерий [35]. В 2018 г. (Mancio et al) предложена методика анализа коронарной ПВЖТ для оценки выраженности воспалительных изменений с помощью коронарных КТ-ангиограмм с оценкой индекса затухания сигнала (FAIПВЖТ), стандартизованного среднего ослабления излучения ЖT в интересующей области (в пределах -190 до -30 единиц HU). Показатель обратно пропорционален размеру адипоцитов и является численным индексом состояния ПВЖТ в условиях избыточной продукции провоспалительных медиаторов при дисфункции периваскулярной ЖТ [39; 40].
Подходы к диагностике метавоспаления при ожирении
Прогнозирование и оценка кардиоваскулярного риска при ожирении продолжает оставаться наиболее актуальной тематикой исследований. В верификации ХСНВ помогает диагностика компонентов так называемого воспалительного статуса – состояния организма, характеризующегося повышенными значениями биохимических, клеточных и цитокиновых показателей, связанных с развитием воспаления [14].
Известно, что уровень маркеров ХСНВ коррелирует с ИМТ и основным модифицируемым фактором риска – образом жизни [17]. Потенциальными факторами риска развития ХСНВ можно считать ОТ, массу тела и продолжительность ежедневной физической активности [17].
Был предложен индекс накопления липидов (LAP) – маркер избыточного накопления липидов у взрослых [41]. Вычисление LAP основано на показателях ОТ и уровня ТГ в крови натощак. Простота расчетов делает LAP удобным инструментом для выявления предрасположенности к метаболическим и сердечно-сосудистым заболеваниям. Согласно данным исследования ЭССЕ-РФ, среднее значение LAP у мужчин 25–64 лет без ИБС и СД2 составило 45,5±0,88 см•ммоль/л [42].
Подтверждена взаимосвязь повышенного ABSI (соответствующего избытку абдоминальной ЖТ) с ростом вчСРБ и ИЛ-6 [24].
Принято считать, что повышение уровня С-пептида является маркером ИР, МС и ассоциируется с сердечнососудистой и общей летальностью у пациентов без СД [15]. Выявлена взаимосвязь вчСРБ с ожирением и ИР: продемонстрировано, что повышение вчСРБ в комбинации с избыточным ИМТ являются более значимыми предикторами развития ИР, чем каждый фактор отдельно [24]. У здоровых уровень вчСРБ в крови составляет менее 1 мг/л. Небольшое повышение уровня вчСРБ (1–3 мг/л) ассоциировано с умеренным, а еще более высокие концентрации – с высоким и очень высоким кардиоваскулярным риском.
Отмечена взаимосвязь вчСРБ с показателем жесткости артериальной стенки. Известно, что при избытке вчСРБ прогрессирует сосудистый фиброз, пролиферация гладкомышечных клеток и эндотелиальная дисфункция, что приводит к увеличению артериальной жесткости – интегрального показателя сердечно сосудистого риска [42].
Имеются данные, что уровни циркулирующего вчСРБ связаны с эпикардиальными и висцеральными жировыми депо у женщин с МС [43]. Известно, что при ожирении размер и доля гипертрофированных адипоцитов ЭЖТ коррелируют с антропометрическими показателями. Показано наличие обратной корреляции между содержанием адипонектина и гипертрофией адипоцитов ЭЖТ [43].
При коронарном атеросклерозе выраженная гипертрофия адипоцитов ЭЖТ (но не толщина ЭЖТ) ассоциирована со снижением системного уровня адипонектина и повышением в крови С-пептида и вчСРБ. Вместе с тем гипертрофия адипоцитов ЭЖТ может являться как причиной развития ХСНВ и метаболической дисфункции, так и их следствием: при коронарном атеросклерозе выявлено уникальное изменение транскриптома эпикардиальных адипоцитов в виде повышенной экспрессии провоспали-тельных и апоптотических генов [43]. Предлагается расценивать низкий уровень адипонектина в крови, наряду с повышением вчСРБ и С-пептида в качестве значимого маркера гипертрофии эпикардиальных адипоцитов.
Адипокины рассматривают в качестве биологических маркеров патологических процессов при ожирении и дисфункции ЖТ [14]. Показана взаимосвязь уровня ИЛ-6, ИЛ-10 и ИМТ у пациентов с ожирением. При ожирении с типичным снижением уровня адипонектина, повышением лептина и провоспалительных цитокинов, создаются условия для нарушения регуляции иммунного ответа и персистирования ХСНВ с характерной гиперпродукцией провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-18, TNF-a), а также СРБ и сывороточного амилоида А [5; 8; 20].
Проводилась оценка показателей нейтрофильнолейкоцитарного индекса (НЛИ), уровня адипокинов и провоспалительных цитокинов у лиц молодого и среднего возраста, страдающих ожирением [30]. Выявлено, что увеличение ИМТ сопровождается повышением уровня лептина, ИЛ-6 и показателей НЛИ в периферической крови. Выявлена взаимосвязь снижения концентрации в сыворотке крови адипонектина и ИЛ-10 при увеличении ИМТ, ассоциированная с НЛИ. Предполагается, что при увеличении ИМТ на 1 кг/м2 увеличивается НЛИ на 0,275 ед. [30].
Адипоциты продуцируют МСР-1 – белок хемоатрак-тант моноцитов-1, который индуцирует активирование макрофагов и инфильтрацию ими ЖТ. М1-макрофаги, в свою очередь, являются источником провоспалительных TNF-a и ИЛ-6, запускают и поддерживают метавоспаление [20].
Известно, что воспаление при ожирении обуславливает проатерогенный эффект. Висцеральное ожирение ассоциировано с избытком СЖК, что опосредованно приводит к увеличению кардиоваскулярных рисков. Избыточная инфильтрация ЖТ активированными М1-макрофагами в условиях ИР способствует активному высвобождению неэтерифицированных жирных кислот, стимулирующих гиперпродукцию ТГ и ЛПОНП в гепатоцитах [4].
Воспаление активируется в ЖТ под воздействием рецепторов врожденного иммунитета (TLR) благодаря которым происходит деградация липидов [18]. Врожденная иммунная система, активирующаяся как при острой инфекции, так и при ожирении, связанная с нарушениями углеводного и жирового обмена. TLRs экспрессируются на различных типах клеток, включая макрофаги, моноциты, дендритные клетки, нейтрофилы, эпителиальные клетки многие из которых проникают в ЖТ при ожирении. Они обнаруживают внеклеточные и внутриклеточные молекулы, связанные с патогенами, такие, как липиды и нуклеиновые кислоты, и инициируют стереотипный ответ, включая активацию NF- k B и транскрипцию активаторного белка 1 (AP1), увеличивающего экспрессию цитокинов и хемокинов. Активация врожденного иммунитета увеличивает выработку ин-фламмасом – крупных мультисубъединичных белковых комплексов, которые играют важную роль в контроле опосредованного каспазой 1 посттрансляционного созревания и секреции провоспалительных интерлейкинов (в первую очередь ИЛ-1^), которые рассматривают, в том числе, в качестве индукторов ИР и нарушения функции в-клеток. Toll-подобные рецепторы, особенно TLR2 и TLR4, которые в норме реагируют на липиды клеточной стенки бактерий, также активируются циркулирующими в крови насыщенными жирными кислотами. Активация TLRs в гепатоцитах, мышечных и жировых клетках приводит к ИР.
Для пациентов с ожирением характерно повышение уровня лептина в крови и формирование лептинорези-стентности. Известно, что повышение концентрации лептина в крови связано с развитием ИР, кардиоваскулярной
патологии и коррелирует с массой ЖТ [14]. Показатели уровня лептина, полученные по данным различных исследований, показали противоречивые данные о критериях, позволяющих оценить взаимосвязь его повышения в крови и метаболическим нездоровьем. Выявлено, что уровень лептина коррелирует с антропометрическими показателями, возрастом, артериальной гипертензией, показателями липидограммы, функции печени [44].
Исследователи утверждают, что для мужчин молодого и среднего возраста метаболическое нездоровье (по показателю ИР) выявлено при уровне лептина в крови выше 9,8 пкг/мл [30]. Для женщин такого же возраста метаболическое нездоровье (по критериям МС) сопровождалось более значимым повышением уровня лептина (13,8 нг/мл), ИЛ-6 (1,6 пг/мл) и TNF-α (4,9 пг/мл). При этом и у метаболически здоровых, и у метаболически нездоровых отмечено повышение уровня лептина, ИЛ-6, TNF-α при увеличении ИМТ [44].
Однако по результатам исследования «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах Российской Федерации» (ЭССЕ-РФ) уровень лептина в крови у женщин молодого и среднего возраста не отличался в группах метаболически здорового и метаболически нездорового ожирения [45].
Избыток висцеральной ЖТ сопровождается снижением выработки адипонектина – основного регулятора жирового и углеводного обмена. Известно, что повышение уровня адипонектина усиливает процессы окисление жиров и снижает ИР, оказывает протективное влияние на процессы эндотелиальной дисфункции и атеросклероза, увеличивает продукцию оксида азота, подавляет активацию эндотелиальных клеток и взаимодействие эндотелия с лейкоцитами, усиливает фагоцитоз и подавляет активацию макрофагов и агрегацию тромбоцитов [14; 20].
В патогенезе висцерального ожирения и ассоциированных метаболических изменений рассматривают роль и других адипокинов: грелина, участвующего в регуляции массы тела и пищевого поведения; резистина, индуцирующего ИР и глюконеогенез в печени; висфати-на, усиливающего транспорт глюкозы в периферические ткани и угнетающего глюконеогенез в печени [4]. Выявлена корреляция ожирения с понижением в крови уровня адипсина – адипокина, обеспечивающего функционирование альтернативного пути активации системы комплемента [46].
По данным литературы, TNF-α – провоспалительный адипокин, его концентрация коррелирует с избытком висцеральной ЖТ и наличием ИР. TNF-α является одним из ключевых маркеров ХСНВ в ЖТ [14]. По данным Фрамингемского исследования (1998-2001) у индивидов с МС отмечен более низкий уровень адипонектина при более высоких показателях TNF-α [45].
Известно, что уровень в крови ИЛ-6 – основного провоспалительного адипокина – прямо пропорционален ИМТ и жировой массе [21]. ИЛ-6 считают одним из индукторов ИР, он способствует фосфорилированию компонентов рецептора инсулина и индуцирует избыточную экспрессию ингибитора передачи инсулинового сигнала SOCS-3 (супрессора сигнальных цитокинов-3), что приводит к развитию и усугублению ХСНВ, а также снижению чувствительности к инсулину [20].
Отмечено повышение уровня провоспалительного ИЛ-1(ra) при висцеральном ожирении, артериальной гипертензии и гипертриглицеридемии [5]. Считают, что ИЛ-1(ra) обладает также и противовоспалительными свойствами, избирательно блокируя мембранные рецепторы ИЛ-1 – реагента острой фазы воспаления [18].
В 2000 г. идентифицирован новый адипокин – ИЛ-22 (являющийся представителем семейства ИЛ-10), вырабатывающийся преимущественно СD4+ Т-хелперами (Th1, Th17, Th22) [47]. Предполагается, что ИЛ-22 поддерживает воспаление в ЖТ и снижает чувствительность к инсулину, что способствует развитию ожирения и СД2 [48].
К биомаркерам МС некоторые исследователи относят цинк-α2-гликопротеин – адипокин, участвующий в регуляции липидного обмена. Отмечено, что снижение уровня циркулирующего цинк-α2-гликопротеина при МС ассоциировано с количеством выявленных у пациента метаболических нарушений [1].
Отмечено, что уровень фосфатидилхолина в крови значительно повышен при МС, а его концентрация отрицательно коррелирует с уровнем адипонектина. Фосфатидилхолин может свидетельствовать о наличии метаболических изменений: выявлена положительная корреляция его уровня с ОТ и ключевыми для МС биохимическими параметрами (содержанием в крови глюкозы, СЖК и ТГ, а так же с повышением ИЛ-1b и ИЛ-8) [1].
Согласно результатам исследований, индекс ИВО, считающийся ранним предиктором МС, положительно коррелировал с уровнем метаболита кишечных бактерий триметиламин-N-оксида (TMAO). Повышение ТМАО ассоциировано с повышением ИМТ и с гипергликемией. Предполагают, что уровень TMAO можно расценивать в качестве раннего биомаркера дисфункции ЖТ, появляющегося еще до формирования типичных критериев MС [1].
Жирные кислоты и их производные также можно рассматривать в качестве маркеров МС. Так, у пациентов с МС отмечено накопление полиненасыщенных жирных кислот и уменьшение пула насыщенных кислот в плазме крови, что сопровождалось избыточным накоплением насыщенных жирных кислот в эритроцитарных мембранах [1].
Заключение
Ключевой проблемой современной медицины является поиск ранних маркеров наиболее социально значимых хронических неинфекционных заболеваний, ассоциированных с повышенным кардиоваскулярным риском. Важнейшей причиной таких метаболически-ассоциированных заболеваний принято считать висцеральное ожирение. Наиболее значимо на развитие
метаболических нарушений влияет адипозопатия в локальных жировых депо. Ранняя диагностика висцерального ожирения с применением общепринятых критериев не всегда позволяет принять верное решение. Использование расчетных индексов, учитывающих, наряду с антропометрическими, также параметры углеводного и липидного обмена, позволяет получить более достоверную информацию, что подтверждено значимой корреляцией метаболических, гормональных и антропометрических показателей. Использование интегральных индексов позволяет выявлять донозоло-гические изменения и прогнозировать риски развития ассоциированной с висцеральным ожирением метаболической патологии.