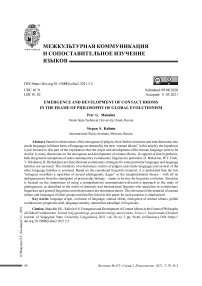Возникновение и развитие контактных идиомов в контексте философии глобального эволюционизма
Автор: Макухин Петр Геннадьевич, Калинин Степан Сергеевич
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 5 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Исходя из наблюдений за возникновением пиджинов, их дальнейшим расширением и трансформацией в креольские языки, обозначаемые в данной работе общим термином «контактный идиом», постулируется гипотеза, что происхождение и эволюция человеческого языка по многим параметрам были схожи с развитием идиомов такого типа. В подтверждение этой гипотезы приводятся результаты анализа онтогенетических и филогенетических векторов развития ряда других языков и языковых семей, наряду с теоретическим осмыслением процесса глоттогенеза, изложенным в исследованиях Д. Бикертона, У.Т. Фитча, Т.М. Николаевой, Б. Бичакжана и др. Показаны эволюционные параллели между этими семьями и контактными идиомами. С опорой на рассмотренный языковой материал утверждается, что закон «онтогенез есть краткое повторение филогенеза» - при всей его дискуссионности с позиций современной биологии - релевантен для языковой эволюции. Теоретической основой исследования являются идеи, представленные в рамках комплексного коммуникативно-дискурсивного направления в анализе глоттогенеза, которое излагается в трудах отечественных и зарубежных ученых - специалистов по эволюционной лингвистике и общему языкознанию. Делается вывод, что материал контактных идиомов и языков других групп и семей, примеры из которых представлены в данной статье, значим для изучения проблемы происхождения естественного человеческого языка.
Происхождение языка, эволюция языка, контактный идиом, формирование контактных идиомов, универсальный эволюционизм, прагматический код, языковая неотения, натуралистическое направление в языкознании
Короткий адрес: https://sciup.org/149139435
IDR: 149139435 | УДК: 81’0 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2021.5.5
Текст научной статьи Возникновение и развитие контактных идиомов в контексте философии глобального эволюционизма
DOI:
Методы сравнительно-исторического языкознания дают возможность реконструкции праязыка (вопрос о статусе этой реконструкции заслуживает отдельного рассмотрения) какой-либо языковой семьи и, с некоторыми допущениями, более крупных таксонов и объединений (в частности, макросемей). Однако при помощи компаративных методов невозможно установить, как возник человеческий язык и тем более выполнить лингвистическую реконструкцию гипотетического «праязыка человечества». Для того, чтобы найти ответы на вопросы, связанные с происхождением и развитием языка, необходимо использовать методы и данные нескольких дисциплин. Представляется, что лингвистическая типоло- гия и контактология могут внести существенный вклад в этот поиск.
Цель статьи – выявление закономерностей языковой эволюции на материале формирования и развития контактных идиомов различного типа (в сопоставлении с векторами развития ряда языковых семей, а именно: индоевропейской, сино-тибетской, австроазиатской и абхазско-адыгской).
Сначала следует определить термин «контактный идиом». Под «идиомом» понимается любая форма существования языка, любое языковое образование [Виноградов, 1990]. Следовательно, контактный идиом – территориально-социальная разновидность языка, возникшая в условиях языкового контакта. Такие идиомы начали формироваться в период колониальной экспансии европейцев в иные части света [Дьячков, 1987, с. 10–11] в результате языковых контактов между европейцами и носителями аборигенных языков Африки, Океании, Северной и Южной Америки и т. д. Этим объясняется специфика зарождения и дальнейшего развития таких идиомов: они складываются в условиях коренной перестройки системы каждого из контактирующих языков.
Результаты и обсуждение
Язык как негенетически наследуемая система и эволюционная теория языка
В то время как коммуникативные системы живых организмов признаются генетически наследуемыми (Ю.С. Степанов под «языком животных» подразумевал их инстинктивное поведение, основанное на знаковости низшего порядка, которую он характеризовал как «язык слабой степени» [Степанов, 2017, с. 32]), вопрос о генетической наследуемости человеческого языка не имеет столь однозначного ответа и является дискуссионным.
Многочисленные попытки обнаружить «языковые» или «грамматические» гены не увенчались успехом, хотя С. Пинкер предполагает, что грамматические гены вполне могут существовать [Пинкер, 2009, с. 283–284, 305–306], а Г. Дойчер в утвердительной модальности пишет о том, что языковая деятельность человека генетически обусловлена [Дойчер, 2016, с. 30–31]. Заметим, что С. Пинкер переосмыслил универсалистскую генеративную грамматику Н. Хомского в духе дарвинизма, постулировав, что – в лаконичной интерпретации Н. Барден и Т.К. Уильямс – «развитие языка – это постепенный, инстинктивный процесс, глубоко укоренившийся в сознании на протяжении многих лет естественного отбора» [Барден, Уильямс, 2012, с. 21]. Важно принять во внимание следующее уточнение: С. Пинкер «считает возможным говорить о “языковом инстинкте” лишь на метауровне, точно так же, как К.Г. Юнг применяет теорию архетипов к коллективному бессознательному» [Барден, Уильямс, 2012, с. 27]. Иначе говоря, универсальность языка свидетельствует о том, что он не является «порождением культуры», а представля- ет собой «результат особого инстинкта, присущего человеку как родовому существу» [Барден, Уильямс, 2012, с. 20]. Плавность эволюции биологических видов и языков человека С. Пинкер обосновывает ссылкой на мысли Ч. Дарвина [Пинкер, 2009, с. 230]. Тем не менее в современных публикациях в области философии биологии распространена следующая идея: «Перед эволюционистами сегодня стоит задача “концептуализовать” катастрофу, взрывной характер инновации (в том числе и в процессе видообразования)» [Грякалов, 2015, с. 23]. В данном утверждении акцент делается на «скачках» и «разрывах» эволюционных линий, в противоположность идее о постепенном развитии языков и биологических видов. Следовательно, при изучении глотто-генеза необходимо учитывать двойственную природу этого процесса.
Конструктивным в концепции С. Пинкера является признание «языковой» уникальности Homo sapiens среди других живых существ, ее физиологической основой служит «такое строение рта, при котором голосовые связки после младенчества расходятся, и в задней части горла образуется резонатор» [Барден, Уильямс, 2012, с. 21]. В результате «язык, в отличие от звука, контролируется корой головного мозга» [Барден, Уильямс, 2012, с. 21], в то время как даже у приматов звуко-извлечение контролируется подкоркой.
В связи с изложенным следует отметить и дальнейшее развитие универсалистских теорий, основанных на генеративизме. Среди них можно выделить эволюционно-синтетическую теорию языка А.Д. Кошелева (подробно см.: [Кошелев, 2017]), в рамках которой предпринята попытка соотнести ступени языковой эволюции с этапами развития культуры и общества [Кошелев, 2017, с. 456–482]. Это важно для дальнейшего изложения, так как структура социума и его культурные особенности оказывают влияние на развитие тех языков или того языка, которым в этом социуме пользуются. В частности, воздействие социокультурных факторов находит отражение на уровне лексики и прагматики, на семантическом уровне и даже на уровне грамматики.
В эволюционно-синтетической теории А.Д. Кошелева значима идея о том, что в основе всех языков лежит универсальная струк- тура, называемая перцептивной моделью мира [Кошелев, 2017, с. 16, 106–107]. Она имеет разнообразные репрезентации в виде множества сенсорных языков, каждый из которых представляет собой отдельный способ кодирования универсальной перцептивной модели мира [Кошелев, 2017, с. 107]. Такие проявления могут быть как на уровне языковой формы, так и на уровне языковых значений. Утверждение о специфичности функционального представления универсальной структуры указывает фактически на разнообразие способов выражения тех или иных языковых значений / смыслов, в то время как общие элементы когнитивной структуры представлены во всех языках, поскольку в целом восприятие мира человеком, его концептуализация и категоризация одинаковы для представителей всех народов. Это происходит потому, что у представителей разных этносов и народностей не обнаруживается существенных различий в функционировании центральной нервной системы и головного мозга.
Векторы эволюции контактных идиомов. Прагматический код
В соответствии с идеями системной типологии Г.П. Мельникова [Мельников, 2014, с. 29–31], контактные идиомы можно представить как находящиеся на аналитической и синтетической стадиях развития. При этом значительная часть контактных идиомов окажется находящейся на стадии аналитизма, что может объясняться различными факторами, в частности – наследованием основных параметров европейских языков-лексификаторов, для которых также характерен аналитизм.
В связи с этими рассуждениями представляется уместным сослаться на описанную И.А. Крыловой синергетическую модель развития пиджинов и креольских языков [Крылова, 2008, с. 133–134]. Если исходить из данной модели, то начальной стадией формирования контактного идиома является возникновение прагматического кода («препиджина», согласно И.А. Крыловой).
Он представляет собой «обломки» грамматической и лексической систем языков, ставших исходными для вновь формирующегося языка [Перехвальская, 2014, с. 8–9].
В силу крайней редукции и упрощения всех языковых параметров в результате перестройки исходных языковых систем прагматический код приобретает характерные черты. Среди них выделяются: недифференцированность частей речи, изолирующий строй, отсутствие синтетического словоизменения [Перехваль-ская, 2014, с. 8–9]. По этим признакам прагматический код сближается с детской речью [Перехвальская, 2014, с. 9], с тем периодом ее развития, когда ребенок только начинает осваивать средства родного языка.
Контактные идиомы аналитического типа, в основе формирования которых лежал прагматический код, разнообразны. Так, торговый язык тихоокеанского побережья США и Канады, известный под названием «чинукский жаргон», наследовал основные грамматические паттерны из европейских языков – английского и, по-видимому, французского [Holton, 2004, р. 29–31]. Чинукский жаргон утратил сложную морфологию и синтаксис индейских языков тихоокеанского побережья Северной Америки, при этом сохранив в своем вокабуляре и базовую, и культурную лексику, этимологически восходящую к соответствующим лексическим единицам данных языков (см. словарные данные в: [Holton, 2004, pp. 89–110]).
Креольские языки бислама и ток-писин, используемые на Вануату и в Папуа – Новой Гвинее (Океания), происходят от «плантационного пиджина» бичламар, сформировавшегося на основе английского языка [Беликов, 1998, c. 61]. Ряд англоязычных по происхождению лексем подвергся в этих языках грамматикализации, трансформировавшись в видовременные частицы. Лексика этих языков четко специализирована: культурная восходит к аборигенным океанийским языкам, базовая – к английскому и частично французскому [Беликов, 1998, с. 113–115].
Сибирский и дальневосточный русско-китайский пиджин практически не сохраняет в своей структуре следов русской флективной морфологии и заново выстраивает собственную морфологическую систему в соответствии с изолирующим строем китайского языка. Начальная, так называемая редуцированная форма сибирского пиджина характеризуется отсутствием эксплицитного выраже- ния грамматических категорий, наличием «мягкой» грамматики со статистическими правилами: это значит, что любое грамматическое правило в нем может нарушаться [Пе-рехвальская, 2014, с. 94]. По своим структурно-типологическим свойствам редуцированная форма пиджина близка к языку изолирующего строя. В процессе дальнейшей эволюции сибирский / дальневосточный пиджин развил в себе черты аналитической морфологии [Перехвальская, 2008, с. 155], отдаленно напоминающей морфологию современного английского языка. В частности, расширенная форма сибирского пиджина использует вспомогательные глаголы [Перехвальская, 2008, с. 156–163], наследуемые из русского языка в «застывшей» форме какого-либо времени или вида. Подобный вектор развития представлен в еще одном контактном идиоме с русскоязычной основой – говорке или таймырском пиджине. В говорке также утрачены многие черты русской морфологии и синтаксиса, при этом большая часть наследуемой лексики русского языка в нем сохранилась, но основные синтаксические модели говорки – уральского и алтайского происхождения [Оглезнева, 2007, с. 13].
Какие-то черты языков-субстратов или лексификаторов в контактных идиомах более ярко выражены, какие-то – менее, одни их элементы более устойчивы, другие – менее. Одни элементы сохраняются в процессе развития контактного идиома, другие достаточно быстро стираются и исчезают. Изначальные, наиболее устойчивые черты идиома продолжают сохраняться и в процессе его дальнейшего развития и трансформации. Такие параметры остаются в нем, даже несмотря на последующие контакты с другими языками или формами других языков, либо декрео-лизацию, либо его сближение с базилектной формой или же наоборот развитие до мезо-или акролектной формы.
Исходной стадии прагматического кода, на первый взгляд, не прослеживается в контактных идиомах, которые сохраняют высокую степень синтетизма. К таковым можно отнести медновский язык, мичиф и медиален-гва. В таких идиомах сохраняется синтетизм исходных языков или одного из исходных языков, причем, как правило, наследуются наи- более сложные черты языков-субстратов и языков-лексификаторов, на основе которых они сформировались. Так, мичиф унаследовал свою сложную глагольную систему из языка кри, а систему имени – из французского [Беликов, 2009, с. 62–63]. Аналогичная ситуация наблюдается и в медновском языке, основные морфологические показатели глаголов в котором унаследованы из русского языка, а основные грамматические категории имени – из алеутского [Головко, 1997, с. 120–123]. Эта особенность контактных идиомов, сохраняющих синтетизм, пока не получила удовлетворительного объяснения. Однако представляется, что сама возможность формирования контактного идиома на основе разноструктурных и типологических отличных друг от друга языков возможна за счет наличия в языке универсальной сенсорно-перцептивной структуры, о которой говорилось в предыдущем параграфе.
Промежуточную позицию занимают особые контактные идиомы типа языка эйну, обладающего смешанной грамматикой и смешанным лексиконом, сохраняющими черты как индоевропейских иранских, так и тюркских (уйгурского) языков. Эйну, согласно анализу В.И. Беликова, уже отошел от исходной иранской грамматики [Беликов, 2009, с. 61, 64], но по ряду причин ее нельзя назвать «полностью тюркской». Таким образом, эйну демонстрирует промежуточную стадию развития контактного идиома, которому свойственна существенная интерференция элементов исходных языковых структур.
Особые варианты языковой эволюции репрезентируют некоторые контактные идиомы, сформировавшиеся в результате взаимодействия английского языка с языками аборигенов Австралии. Среди таких идиомов можно выделить современный тиви, вальбири рампаку и дьирбал «молодых людей», характеризующиеся умеренно аналитической структурой, что и отличает их от исходных субстратных языков аборигенов. Стадия прагматического кода в развитии этих идиомов обусловлена тем, что первыми носителями и фактически создателями таких идиомов стали представители самого младшего поколения австралийского автохтонного населения.
Типологические параллели в развитии некоторых языковых групп и семей (индоевропейские, абхазско-адыгские, сино-тибетские, австроазиатские языки)
С опорой на приведенные рассуждения можно представить типологические параллели в развитии контактных идиомов с направлениями развития других языков, используя, например, результаты исследования Н.Д. Андреева, в котором рассматривается, в том числе, и типология раннеиндоевропейского праязыка (далее – РИЯ) [Андреев, 1986]. РИЯ в целом был очень схож с контактными идиомами на исходной стадии развития, близкой к прагматическому коду. Это был изолирующий язык, в нем отсутствовало деление на части речи, по крайней мере формальное, отсутствовало синтетическое словообразование, продуктивным способом словообразования являлось словосложение [Андреев, 1986, c. 4]. Семантика того или иного слова РИЯ определялась не его частеречной принадлежностью, а функцией, выполняемой им в предложении (ср., в частности, с примером корня диффузной глагольно-именной семантики, приведенным в: [Андреев, 1986, c. 40]). Позднее, при переходе от РИЯ к средне- и позднеиндоевропейскому праязыку, произошла «синтети-зация» РИЯ, в котором стало появляться флективное словоизменение [Андреев, 1986, c. 282, 287–288]. Вероятно, это связано с включением соответствующих предлогов, личных и притяжательных местоимений в структуру тех или иных глагольных словоформ.
Другой типологической параллелью может являться развитие северо-западнокавказских (абхазско-адыгских) языков, особенности которого исследованы В. Чирикбой [Chirikba, 2016]. Современные абхазско-адыгские языки характеризуются высокой степенью развития полисинтетизма и очень сложными, высокоспециализированными глагольными словокомплексами. Фактически абхазский или адыгейский глагол представляет собой «предложение в миниатюре», в котором кодируются все участники ситуации, сирконстанты, разнообразные аспектуальные, темпоральные и прочие значения. Между тем такими абхазско-адыгские языки были дале- ко не всегда. Ранняя форма прото-абхазско-адыгского языка, как пишет В. Чирикба, характеризовалась высокой степенью аналитизма, в ней фактически отсутствовало развитое синтетическое словоизменение [Chirikba, 2016, p. 13–14, 21–22]. Абхазско-адыгский полисинтетизм – приобретение относительно недавнего по историческим меркам времени, которое появилось в них также, по всей видимости, за счет включения местоименных и прочих форм в структуру глагольного предиката [Chirikba, 2016, p. 14, 22]. Вместе с тем В. Чи-рикба показывает, что ближе к общесеверокавказскому языку по системно-структурным свойствам стоят даже не абхазско-адыгские, а нахско-дагестанские (северо-восточнокавказские) языки, характеризующиеся в целом агглютинативной умеренно синтетической морфологией с элементами аналитизма, в отличие от своих полисинтетических «западных» соседей [Chirikba, 2016, p. 2].
Схожие модели развития можно обнаружить и в других языковых семьях. Так, в работах Р.Дж. ЛаПоллы характеризуются типологические черты прото-сино-тибетского языка [LaPolla, 2006; 2017] и отмечено отсутствие в нем реляционной морфологии при умеренном развитии деривационной в виде префиксов, суффиксов и различного рода чередований [LaPolla, 2017, p. 40]. Прото-сино-тибетский язык был моносиллабическим, но дальнейшее развитие сино-тибетских языков стало протекать по двум эволюционным направлениям [LaPolla, 2006, p. 395]. Первое направление было ориентировано на упрощение силлабических структур, что представлено, например, в современных синитических языках; второе – характеризовалось тенденцией к усложнению морфологической структуры слова, появлению реляционной морфологии, которая, как упоминает Р.Дж. ЛаПолла, привела к грамматикализации личных показателей глаголов и показателей имени, выражающих семантическую роль [LaPolla, 2006, p. 395]. В некоторых сино-тибетских языках, например в языках гьялронг-цянской ветви, начал развиваться полисинтетизм. Аналогичный вектор эволюции демонстрируют и австроазиатские языки. Как отмечается П. Сидуэллом [Sidwell, 2008, p. 252], протоавстроазиатский язык с типологической точки зрения представлял собой также моносиллабический или сесквисилла-бический язык, характеризующийся умеренной аффиксацией, выполнявшей в основном деривационные функции. Умеренное использование моносиллабических префиксов и инфиксов сохранилось в ряде его языков-потомков, в особенности в аслийских и в никобарских языках, сохраняющих архаичную австроазиатскую морфологию [Sidwell, 2008, p. 252– 253]. Напротив, аналогично сино-тибетским языкам некоторые австроазиатские языки (например, вьетнамский) в процессе утраты «старой» протоавстроазиатской системы аффиксации [Sidwell, 2008, p. 252] трансформировались в языки изолирующего строя. В других австроазиатских языках (языки мунда) также развились полисинтетизм и инкорпорация. При этом внутри и сино-тибетской, и австроазиатской семей четко выделяются два типа языков: языки, в которых морфология упростилась вплоть до развития изоляции, и языки, в которых произошло ее усложнение и развился полисинтетизм.
Закономерности глоттогенетического процесса
Описанные выше эволюционные параллели в разных языковых семьях и группах не являются случайным совпадением. Общая для них исходная стадия развития, характеризующаяся аналитизмом, репрезентирует один из наиболее ранних этапов глот-тогенеза в целом.
Это подтверждается результатами исследований Т.М. Николаевой (см., например: [Николаева, 1984; 1996]). В частности, в контексте обсуждения коммуникативно-дискурсивного подхода к исследованию эволюции языка она пишет, что «принципы, согласно которым осуществляется развитие языковых систем, универсальны и естественны» [Николаева, 1984, c. 111]. В качестве одной из ключевых идей рассматриваемого подхода Т.М. Николаева выделяет идею «единонап-равленности процесса языкового развития, общего для языков родственных и неродственных» [Николаева, 1984, c. 111]. Кроме того, с нашими наблюдениями о развитии контактных идиомов согласуется утверждение Д. Бикертона о лингвистических «живых ископаемых», к которым относятся и пиджины, и креольские языки, более точно, в соответствии с интерпретацией идей данного автора У.Т. Фитчем, – стадия перехода от пиджина к креольскому языку [Фитч, 2013, c. 434].
Языковые данные контактных идиомов различных типов, векторы их формирования и эволюции приводятся в настоящей работе в связи с их релевантностью для общих теорий глоттогенеза. К ним можно отнести теорию глоттогенеза, выдвинутую Д. Бикертоном, которая наиболее полно представлена в его монографиях [Bickerton, 1990; 2016]; см. также анализ глоттогенетической концепции Д. Бикертона в монографии [Фитч, 2013, c. 431–441] и ее критику в работе [Перехваль-ская, 2008, c. 60–61].
Согласно данной концепции человеческий язык возник из протоязыкового континуума, который по своим лингвистическим параметрам был схож с пиджинами [Bickerton, 1990, p. 122–126; 2007, p. 515]. Формирование человеческого языка из протоязыка имело в целом «взрывной» характер: Д. Бикертоном оспаривается постепенное и поэтапное формирование синтаксиса, которое, согласно его теории, произошло единократно и мгновенно [Bickerton, 2007, p. 521–522]. Формирование человеческого языка было подобно тому, что в биологии обычно называется аромор-фозом. Соответственно, в результате такого ароморфоза язык приобрел основные свойства, которые сейчас характерны для всех естественных языков человечества (по крайней мере, всех известных и описанных лингвистической наукой), в частности рекурсию и метаязыковую функцию. Такие свойства человеческого языка не зафиксированы ни в одной коммуникативной системе других живых организмов, в то время как иные (референция, синтактика) имеются и в этих коммуникативных системах. Лингвистам пока не удалось обнаружить естественный человеческий язык, в котором отсутствовала бы рекурсия. Имеющиеся материалы, например по языку пираха, в котором частью исследователей постулируется ее отсутствие (см., например, работу Д. Эверетта и его критический анализ другими языковедами в: [Everett, 2005, p. 634, 635]), допускают противоположные интерпретации.
«Грамматичность» начинает развиваться в человеческом языке уже после его окончательного оформления и выделения из доязыкового континуума. На развитие грамматики оказывает влияние множество различных факторов, в том числе развитие человеческого общества и культуры. Следовательно, (ко)эволюции языка, общества и культуры происходили параллельно.
Теория языковой неотении и лингвистические «живые ископаемые»
По словам У.Т. Фитча, пиджины и креольские языки отражают минувшие стадии развития языка [Фитч, 2013, c. 434]. Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод об их значимости как лингвистических «живых ископаемых» для общей теории глоттогенеза. Здесь можно привести следующую биологическую параллель. В классической эмбриологии и эволюционной теории известен закон, гласящий, что онтогенез есть краткое повторение филогенеза. При всей дискуссионности этого постулата с позиции современной биологической науки (см. также осмысление этого постулата в работе Д. Бикертона в связи с обсуждением ряда глоттогенетических проблем [Bickerton, 2016, p. 225–226]) он представляется релевантным для целей изучения языковой эволюции. Исходя из анализа приведенных примеров и вышеизложенных общетеоретических соображений, мы можем постулировать гипотезу о верности повторения филогенеза в процессе онтогенеза и для эволюции языка. Филогенез здесь понимается как возникновение и развитие в целом языка у человека разумного, а онтогенез – как происхождение и развитие языковых объединений и отдельных языков. Это наблюдение согласуется с материалами других исследований. Так, Т.М. Николаевой в контексте обсуждения эволюционных теорий языка указываются критерии, по которым различаются язык и протоязык [Николаева, 1996, с. 81]. При этом автор замечает, что «протоструктуры характеризуют язык обезьян, речь маленьких детей и пиджин-языки» [Николаева, 1996, с. 81–82]. Таким образом, языковой онтогенез – формирование и эволюция пиджинов, креольских языков и т. п., усвоение язы- ка ребенком – действительно повторяет филогенез. В связи с этим уместно вспомнить о теории так называемой языковой неотении / языкового педоморфоза, основы которой были изложены в работах Б. Бичакжана [Bichakjian, 1988a; 1988b] (см. также анализ этой теории в: [Николаева, 1996, с. 82–83]). Несмотря на спорность данной теории, с ее помощью можно объяснить, почему для большей части контактных идиомов характерен аналитизм: для пиджина или креольского языка как языка, образовавшегося в условиях экстремального языкового контакта, свойствен возврат к первоначальным стадиям языкового развития с исчезновением всех тех сложных и иррегулярных структур, которые имелись в изначальных языках, и максимальной унификацией оставшихся. Однако эта теория не объясняет существования контактных идиомов, в которых сохраняются значительные элементы флективнос-ти и которые наследуют максимально сложные паттерны исходных языков. Другие возможные теории, связанные с данной проблематикой, обсуждались выше.
Заключение
Таким образом, параллелизм между возникновением и развитием контактных идиомов и эволюцией других языковых групп неслучаен. Если рассматривать его в контексте общности процесса, то он отображает последовательное развитие человеческого языка как такового. Отсюда следует, что закон о языковом онтогенезе как кратком повторении филогенеза языка в целом релевантен, по крайней мере, для контактных идиомов, вероятно, он действителен и для других языковых групп и семей. Кроме того, на материале контактных идиомов подтверждается явление языковой неотении / педоморфоза, поскольку вновь сформировавшийся идиом сохраняет черты исходного прагматического кода и, соответственно, черты наиболее ранних этапов глот-тогенеза. Отдельные признаки языковой неотении могут быть свойственны не только контактным идиомам, но, возможно, и ряду других языковых семей и групп: ср. с проанализированными выше вектором развития австроазиатских языков и формированием контактных идиомов на основе языков австралий- ских аборигенов. Вероятно, обоснованность этой и других рассмотренных выше гипотез может быть подтверждена более детальным исследованием истории происхождения и развития иных языковых объединений.
Список литературы Возникновение и развитие контактных идиомов в контексте философии глобального эволюционизма
- Андреев Н. Д., 1986. Раннеиндоевропейский праязык. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние. 328 с.
- Барден Н., Уильямс Т. К., 2012. Слова и символы. Язык и коммуникация в терапии / пер. с англ. О. В. Свинченко. Харьков : Гуманит. Центр. 180 с.
- Беликов В. И., 1998. Пиджины и креольские языки Океании. Социолингвистический очерк. М. : Вост. лит. 198 с.
- Беликов В. И., 2009. Языковые контакты и генеалогическая классификация // Вестник РГГУ. Серия «Филологические науки. Языкознание. Вопросы языкового родства». N° 1. С. 49-68.
- Виноградов В. А., 1990. Идиом // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М. : Сов. энцикл. С. 171.
- Головко Е. В., 1997. Язык медновских алеутов // Языки мира. Палеоазиатские языки. М. : Индрик. С. 117-125.
- Грякалов Н. А., 2015. Жребии человеческого. Очерк тотальной антропологии. СПб. : Дмитрий Бу-ланин. 438 с.
- Даль Э., 2009. Возникновение и сохранение языковой сложности / пер. с англ. Д. В. Сичинавы. М. : URSS. 560 с.
- Дойчер Г., 2016. Сквозь зеркало языка: почему мир на других языках выглядит иначе / пер. с англ. Н. Ю. Жуковой. М. : АСТ. 382 с.
- Дьячков М. В., 1987. Креольские языки. М. : Наука. 108 с.
- Кошелев А. Д., 2017. Очерки эволюционно-синтетической теории языка. М. : Яз. слав. культуры. 528 с.
- Крылова И. А., 2008. Синергетический подход к изучению пиджинов и креолей // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. № 30 (67). С. 131-136.
- Мельников Г. П., 2014. Системная типология языков: синтез морфологической классификации языков со стадиальной : курс лекций. М. : Ленанд. 96 с.
- Николаева Т. М., 1984. Коммуникативно-дискурсивный подход и интерпретация языковой эволюции // Вопросы языкознания. № 3. С. 111-119.
- Николаева Т. М., 1996. Теория происхождения языка и его эволюции - новое направление в современном языкознании // Вопросы языкознания. № 2. С. 79-89.
- Оглезнева Е. А., 2007. Русско-китайский пиджин: опыт социолингвистического описания. Благовещенск : АмГУ 264 с.
- Перехвальская Е. В., 2008. Русские пиджины. СПб. : Алетейя. 363 с.
- Перехвальская Е. В., 2014. Исследования по русским пиджинам : сб. ст. М. ; Берлин : DirectMEDIA. 224 с.
- Пинкер С., 2009. Язык как инстинкт / пер. с англ. Е. В. Кайдаловой ; под общ. ред. В. Д. Мазо. 2-е изд., испр. М. : URSS : Либроком. 456 с.
- Степанов Ю. С., 2017. Семиотика. М. : Ленанд. 168 с.
- Фитч У Т., 2013. Эволюция языка / пер. с англ. и науч. ред. Е. Н. Панова. М. : Яз. слав. культуры. 824 с.
- Bichakjian B. H., 1988. Evolution in Language. Ann Arbor : Karoma Publishing. 178 p.
- Bichakjian B. H., 1988. Neoteny and Language Evolution // The Genesis of Language. A Different Judgement of Evidence / ed. by M. E. Landsberg. Berlin ; N. Y. ; Amsterdam : Mouton de Gruyter. P. 113-136.
- Bickerton D., 1990. Language and Species. Chicago : University of Chicago Press. 305 p.
- Bickerton D., 2007. Language Evolution: A Brief Guide for Linguists // Lingua. № 117. P. 510-526. DOI: 10.1016/j.lingua.2005.02.006.
- Bickerton D., 2016. Roots of Language. Berlin : Language Science Press. 300 p.
- Chirikba V. A., 2016. From North to North West: How North-West Caucasian Evolved from North Caucasian // Mother Tongue. Iss. XXI. P. 1-27.
- Everett D. L., 2005. Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pirahä. Another Look at the Design Features of Human Language // Current Anthropology. Vol. 46, № 4. P. 621-646. DOI: 10.1086/431525.
- Holton J. R., 2004. Chinook Jargon: The Hidden Language of Pacific Northwest. San Leandro, California : Wawa Press. 137 p.
- LaPolla R. J., 2006. Sino-Tibetan Languages // Encyclopedia of Language and Linguistics / ed. by K. Brown. 2nd Edition. L. : Elsevier. P. 393-397.
- LaPolla R. J., 2017. Overview of Sino-Tibetan Morphosyntax // The Sino-Tibetan Languages / ed. by G. Thurgood, R. J. LaPolla. 2nd Ed. L. ; N. Y. : Routledge. P. 40-69.
- Sidwell P., 2008. Issues in the Morphological Reconstruction of Proto-Mon-Khmer // Morphology and Language History / ed. by C. Bowern, B. Evans, L. Miceli. Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company. P. 251-265.