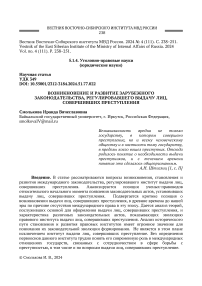Возникновение и развитие зарубежного законодательства, регулировавшего выдачу лиц, совершивших преступления
Автор: Смолькова И.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье рассматриваются вопросы возникновения, становления и развития международного законодательства, регулировавшего институт выдачи лиц, совершивших преступления. Анализируются позиции ученых-правоведов относительного начального момента появления законодательных актов, установивших выдачу лиц, совершивших преступления. Подвергается критике позиция о возникновении выдачи лиц, совершивших преступления, в древние времена до нашей эры по причине отсутствия международного права в эту эпоху. Дается анализ теорий, послуживших основой для оформления выдачи лиц, совершивших преступления, и характеристика различных законодательных актов, показывающих эволюцию правового института выдачи лиц, совершивших преступления. Анализ исторического пути становления и развития правовых институтов имеет огромное значение для понимания их законодательной эволюции формирования. Не является в этом плане исключением институт выдачи лиц, совершивших преступление. Без определения первооснов данного института трудно понять его современную роль в международных отношениях государств, связанных с сотрудничеством в сфере борьбы с преступностью, в том числе и по вопросам выдачи лиц, совершивших преступление.
Выдача лиц, совершивших преступления, договоры, соглашения, конвенции, политические преступления, право на убежище
Короткий адрес: https://sciup.org/143184024
IDR: 143184024 | УДК: 349 | DOI: 10.55001/2312-3184.2024.51.77.022
Текст научной статьи Возникновение и развитие зарубежного законодательства, регулировавшего выдачу лиц, совершивших преступления
Введение. В статье рассматриваются вопросы возникновения, становления и развития международного законодательства, регулировавшего институт выдачи лиц, совершивших преступления. Анализируются позиции ученых-правоведов относительного начального момента появления законодательных актов, установивших выдачу лиц, совершивших преступления. Подвергается критике позиция о возникновении выдачи лиц, совершивших преступления, в древние времена до нашей эры по причине отсутствия международного права в эту эпоху. Дается анализ теорий, послуживших основой для оформления выдачи лиц, совершивших преступления, и характеристика различных законодательных актов, показывающих эволюцию правового института выдачи лиц, совершивших преступления. Анализ исторического пути становления и развития правовых институтов имеет огромное значение для понимания их законодательной эволюции формирования. Не является в этом плане исключением институт выдачи лиц, совершивших преступление. Без определения первооснов данного института трудно понять его современную роль в международных отношениях государств, связанных с сотрудничеством в сфере борьбы с преступностью, в том числе и по вопросам выдачи лиц, совершивших преступление.
Материалы и методы. В статье анализируются различные зарубежные законодательные акты, в которых в том или ином виде представлена выдача лиц, совершивших преступления, юридическая литература проблемы как дореволюционного периода, так и современная. В качестве методов исследования использованы сравнительно-правовой и историко-формальный, а также общенаучные методы – анализ, синтез.
Результаты исследования. На основании анализа различных теорий о происхождении института выдачи лиц, совершивших преступления, дается оценка их обоснованности с позиции существования норм международного права, делаются выводы о первоначальных этапах зарождения данного института.
Выводы и заключения. Предпосылки института выдачи лиц, совершивших преступления, начали формироваться задолго до появления международного сотрудничества, но с его появлением он стал средством реализации уголовной политики и средством противодействия преступности на международном уровне. На основании исследования различных позиций о первоисточнике возникновения правовых норм о выдаче лиц, совершивших преступления, автор делает вывод о появлении данного института с конца XVIII – начала XX века с развитием международного сотрудничества государств в сфере борьбы с преступностью.
-
5.1.4. Criminal law sciences (legal sciences)
Original article
EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF FOREIGN LEGISLATION REGULATING THE EXTRADITION OF PERSONS WHO COMMITTED CRIMES
Iraida V. Smolkova
Introduction. The article deals with the issue of the origin, formation, and development of international legislation governing the institution of the extradition of individuals who have committed criminal offenses. The positions of scholars on the initial point of appearance of legislation establishing the extradition of criminals are analyzed. The position on the appearance of extraditions of criminals in ancient times BC due to the lack of international law at that time is criticized. There is also an analysis of theories that served as the basis for the establishment of extraditing criminals and a description of various legal acts that show the evolution of this legal institution. Analyzing the historical path of the formation and development of these legal institutions is important for understanding their evolution. The institution of extradite criminals is no exception. Without understanding the origins of the institution, it will be difficult to understand the current role of this institution in international relations between states related to cooperation on crime, including the extradiction of criminals.
Materials and Methods . The article analyses various foreign legislation, which, in one form or another, presents extradition for persons who have committed crimes. Legal literature on the problem is studied both in the pre-revolutionary and modern periods. As research methods, comparative-legal, historical-formal and general scientific methods are used, such as analysis and synthesis.
The Results of the Study. On the basis of analysis of various theories on the origin of extradition, the validity of these theories is assessed from the standpoint of international law and conclusions are drawn about the initial stages in the emergence of the institution.
Findings and Conclusions . The prerequisites for the institution of the extradition of people who have committed crimes started to form long before international cooperation emerged, but with the emergence of cooperation, it became a tool for implementing criminal policies and combating crime on an international level. Based on the study of different positions on the origin of legal norms for extraditing people who have violated laws, the author concludes that this institution emerged in the late 19th - early 21st centuries with the development of state cooperation in fighting crime.
Относительно времени возникновения правового института выдачи лиц, совершивших преступления (далее – выдача), в научной литературе сформировались три основные позиции. Согласно первой из них его появление берет свое начало с древнейших цивилизаций (IV–II тысячелетия до н. э.) [1, с. 128]. Сторонники этой позиции рассматривают в качестве первого известного мировой истории письменного международного договора (ставшего уже хрестоматийным), в котором упоминались положения о выдаче, договор, заключенный в 1278 г. до н. э. (по другим источникам – в 1296 г.) египетским фараоном Рамзесом II и царем хеттов Хеттушилем III, между Египтом и Хеттским государством. В нем, в частности, отмечалось, что «если убежит из земли египетской один человек, или два или три, чтобы пойти к великому князю страны хеттов, то великий князь страны хеттов должен схватить их и повелеть отправить обратно к Рамзесу II, великому князю Египта» [2, с. 34, 37]. А. Штиглиц, считая, что в древние времена институт выдачи не мог получить никакого развития в силу изолированности государств, тем не менее, для данного договора делал исключение, признавая его в качестве первоисточника выдачи [2, с. 40].
Разделяют эту позицию и некоторые современные авторы [3, с. 16; 4, с. 57; 5, с. 75-76; 6, с. 6]. Так, например, С. Д. Беди отмечает: «Выдача в любой форме является институтом, который появился в древней цивилизации, когда не было еще ни стройной системы норм международного права, ни развернутого учения о нем» [3, c. 16].
В свое время Ф. Ф. Мартенс опровергал данную позицию, считая, что примеры, которые обычно приводили из истории классической древности в подтверждение того, что выдача существовала уже в древнем мире, как «нельзя более доказывают, что она не только не была в это время институтом международного права, но даже не развилась до степени обычая, общепризнанного в сношениях между наиболее образованными и близкими по своим интересам народам древности» [7, с. 384].
Действительно, если в рассматриваемые времена не было международного права, то и его институт не мог появиться.
Отдельные правоведы справедливо обращают внимание на то, что в приведенном договоре речь шла вообще не о выдаче, а о возврате беглецов, бежавших из-под власти одного «владыки», чтобы стать подданными другого [8, с. 91].
В анализируемую эпоху договоры, весьма и весьма отдалено напоминающие выдачу, преимущественно были инструментами возвращения беглых рабов. Последователи второй позиции исходят из более поздних сроков возникновения правовых положений о выдаче, хотя также ориентируются на довольно древние источники. Так, Э. К. Симсон к числу первых договоров о выдаче относил Саксонский капитулярий, заключенный Карлом Великим с саксонцами в 797 г. н. э., статья X которого устанавливала, что, если один из преступников, заслуживающих по саксонскому закону смертной казни, «искал убежища у Королевского величества, то будет во власти короля выдать его для казни или же с согласия саксонцев выслать преступника ... за пределы отечества» [9, с. 43].
-
А. Штиглиц к ранним международным соглашениям о выдаче относил Трактат, заключенный в 1174 г. между английским королем Генрихом II и шотландским королем Вильгельмом [2, с. 5].
Следует признать, что в средние века можно обнаружить некоторые примеры достаточно редких договоров, напоминающих выдачу преступников, однако заключались они не между государствами, а между правителями (царями, королями, императорами и т. п.), зависели от их воли или каприза и преследовали главным образом политические цели. Смена правителя, как правило, прекращала и действие таких договоров.
В эти времена стали появляться только первоначальные ростки сотрудничества государств по вопросам выдачи. Так, например, в некоторых договорах между итальянскими городами (которые по существу были самостоятельными государствами) отмечалось, что при выдаче они «не делают изъятие в пользу собственных преступных граждан, но обещают взаимно наказание или изгнание их». В частности, такие договоры были заключены в 1166 г. между Болоньей и Моденой, в 1221 г. – между Пизой и Арлемом [9, с. 91].
Ф. Ф. Мартенс так характеризовал соглашения о выдаче этого периода времени: «требования выдачи вызывались случайными политическими обстоятельствами. Обычно они предъявлялись со стороны сильнейшего слабому государству, а отказ служил поводом к войне. Настаивали на выдаче не политических преступников, а политических врагов, от которых выгодно было избавиться» [7, с. 384].
В XVI и XVII вв. в юридическом сообществе сформировалась концепция, в соответствии с которой каждому государству принадлежит право наказывать за преступления, совершенные не только в пределах своей территории, но даже за ее пределами, если виновный находился в их власти [7, с. 155].
В Новое время между Данией и Англией (1661 г.) был заключен договор, который обязал Данию выдавать Англии всякого, принимавшего участие в казни Карла I. По этому договору подлежащими выдаче считались враги протестантской церкви [10, с. 42].
Третья позиция исходит из того, что институт выдачи возник гораздо позднее: в период буржуазных революций конца XVIII и начала XIX в. [11, с. 1; 12, с. 80; 13, с. 309]. В частности, Д. Никольский полагал, что «до XIX века не могло быть и речи о праве выдачи. Были отдельные требования и отдельные случаи выдачи, возникавшие совершенно из случайных обстоятельств … Только в конце XVIII века появляются некоторые зародыши права выдачи» [12, с. 80]. Аналогичным образом рассуждал и Н. А. Таганцев, заметив, что «только в новейшее время учение о выдаче становится на юридическую почву и рассматривается как особая форма охранительной государственной деятельности» [13, с. 309].
Действительно, если подходить к понятию выдачи с современных позиций, то можно согласиться с третьей позицией. Представляется, что институт выдачи появился с момента утверждения на государственном уровне идеи о территориальном верховенстве государства, в соответствии с которой в пределах каждого государства должна господствовать единая и самостоятельная карательная власть, которой обязаны подчиняться все лица, находящиеся на его территории.
Р. А. Елисеев справедливо замечает, что раннему периоду развития законодательства о выдаче было свойственно появление квазиэкстрадиционных отношений, обусловленных политическими мотивами и основанных на межгосударственных соглашениях о возврате на инакомыслящих, истребовании врагов режима [14, с. 90].
Вполне обоснованно в этой связи отмечал Ф. Ф. Мартенс, что вопрос о выдаче «возник как требование права только с момента, когда в различных государствах уголовное правосудие достаточно и одинаково развилось, когда законы уголовные стали приблизительно соответствовать основным воззрениям на преступление и наказание, и только между этими государствами с самого начала происходят переговоры и заключаются конвенции о выдаче» [7, с. 366].
Одним из первых многосторонних межгосударственных соглашений о выдаче был Амьенский договор о выдаче преступников, подписанный 27 марта 1802 г. между
Францией, Испанией, Голландией и Англией 1 , в соответствии с которым выдаче подлежали лица, обвиняемые в совершении убийства, умышленном банкротстве и подделке денежных знаков.
Во Франции получила развитие концепция, согласно которой король обязан защищать интересы своих подданных, на этом основании их нельзя выдавать. Выдаче подлежали только иностранцы, ибо «право выдачи лежит не в договорах, а в правах короля в силу его рождения» [12, с. 36]. Принцип невыдачи своих подданных впервые был закреплен в Договоре 1736 г., заключенным между Францией и Нидерландами.
В XVIII в. Франция внесла значительный вклад в развитие института выдачи. А. Штиглиц в этой связи писал, что экстрадиционное право получило свое развитие главным образом «благодаря международной деятельности французской державы, стоявшей во главе цивилизации» [2, с. 7–9].
Великая французская революция 1789 г. провозгласила право политического убежища, закрепив его в Конституции Французской Республики (принята 3 сентября 1791 г.) 2 , установив: «французский народ предоставляет убежище иностранцам, изгнанным из пределов своей родины за преданность свободе» (статья 120).
В середине XIX в. в Великобритании сформировалась политическая позиция, провозгласившая принцип невыдачи лиц, преследуемых по политическим мотивам, более того эти лица должны были наделяться со стороны государства пребывания правом на убежище.
Резко отрицательно по поводу признания права на убежище высказывался «отец международного права» [8, с. 101] Гуго Гроций (1625 г.), отметив, что оно не должно предоставляться тем, кто «совершит что-либо насильственное против человеческого общества или других людей, людям, чья жизнь полна незаконных деяний, не остается места для убежища» [15, с. 374]. Позднее Ч. Беккариа (1895 г.) также выступил против предоставления убежища лицам, совершившим преступления, считая, что «безнаказанность и убежище мало чем отличаются друг от друга … убежище стимулирует преступление больше, чем наказания удерживают от них» [16, с. 31].
Некоторые европейские авторы (Л. Кук, С. Сапэ, П. Ферейра), поддерживая право убежища, отрицали само право выдачи. Например, С. Сапэ называл выдачу «правом жестоким, обычаем варварским, предназначенным к вымиранию, противным истинной человечности», а П. Ферейра отмечал, что «государство-ответчик не имеет права выдачи, ни один народ не может отказать в убежище … иностранцу, причем последний должен пользоваться всеми гражданскими правами наравне с природными подданными» [12, с. 34, 35].
В XIX в. значительную роль в развитии института выдачи сыграли теории, разработанные различными европейскими учеными-правоведами, которые получили условные обозначения, как: «территориальная», «национальная», «реальная» и «космополитическая» [12, с. 2–19].
« Территориальная » теория основывалась на идее государственного верховенства, в соответствии с которой государство осуществляло карательную функцию в пределах своей территории, оно не может признавать законы другого государства на своей территории, а, лица, совершившие преступления, должны быть наказаны на территории той страны, где они были совершены. Эта теория исходила из правила «forum delicti comissi» («подсудность по месту совершения преступления»), означавшего, что для уголовного преследования и наказания преступников компетентен исключительно суд места совершения преступления. «Территориальная» теория допускала выдачу всех обвиняемых, которые покинули свое государство.
Представитель этой теории Ч. Беккариа полагал, что в пределах данной страны не должно быть места, на которое не распространялось действие законов. «Сила их должна следовать за гражданином как тень за телом» [16, с. 31].
Аналогичным образом рассуждал и Ф. Ф. Мартенс, полагая, что первостепенное право требовать выдачи принадлежит государству, где преступление совершено, а национальность лица, совершившего преступление, при этом играет второстепенную роль [7, с. 382]. Сторонниками данной идеи были немецкие юристы К. Миттермайер, П. Фейербах.
« Национальная » теория исходила из того, что, покидая пределы своей страны, человек не терял своего подданства, поскольку законы создавались не для территорий, а для людей, живущих на ней, соответственно, уголовный закон имел обязательную силу в отношении граждан собственной страны, невзирая на их местонахождение. Основателем данной теории был немецкий юрист А. Бернер. Д. Никольский называл ее теорией «личной подчиненности», считая, что каждый подданный, где бы он ни был, обязан подчиняться своим национальным законам [12, с. 8]. Последователи «национальной» теории допускали выдачу собственных граждан. С позиции Ф. Ф. Мартенса, выдача собственных подданных тому государству, в пределах которого они совершили преступные действия, «служила бы только доказательством уважения к правосудию чужой заинтересованной страны». По его мнению, право наказания имеет только то государство, которое находится в каком-либо юридическом отношении к преступнику или преступлению [7, с. 382].
Противоположного мнения по данному вопросу придерживались отдельные европейские ученые (К. Биндинг, Ф. Лист). Так, например, К. Биндинг выступал против выдачи государством своих граждан, считая такую выдачу варварской, поскольку государство сделается орудием, вырывающим гражданина из своей родины, а гражданин будет подвергнут чуждым процессуальным и уголовным законам. По его мнению, государство не может вполне доверять чужеземному правосудию, так как нельзя рассчитывать на полное беспристрастие иностранных судей и «ожидать, что они отнесутся к чужеземцу с тем же вниманием и снисхождением как к своему соотечественнику. Такою выдачею нарушалось бы суверенность государства» [13, с. 322].
Штиглиц А. в выдаче собственных граждан видел «оскорбление человеческого достоинства, ибо государство, поступая таким образом, становится как бы агентом, помощником иностранного государства, причем такая помощь, такое содействие для достижения целей чужеземного правосудия по отношению к национальным подданным или гражданам является унизительным» [2, с. 56].
Представители « реальной » теории (немецкие юристы А. Вийефор, Р. Гейнце), пытаясь устранить противоречия «территориальной» и «национальной» теорий, считали, что государство берет под свою защиту интересы, признанные собственным законодательством. На этом основании любые деяния, направленные против этих интересов, независимо от того, где они совершены (в пределах страны или за ее пределами), а также от гражданства обвиняемого должны рассматриваться как совершенные против этого государства.
Приверженцы «реальной» теории поддерживали выдачу всех иностранцев, совершивших преступления против интересов другого государства. Однако «реальная» теория не могла привести аргументы в обоснование наказания собственных граждан, совершивших преступление за пределами собственной страны.
С середины XIX в. берет начало « космополитическая » (разные авторы называют ее по-разному: международная, интернациональная, универсальная) теория, основоположником которой считается А. Бульмеринг, посвятивший ее обоснованию монографию «Право убежища и спасение беглецов от пыток» (1853 г.) [16]. Он называл ее «теорией будущего» и, надо сказать, время подтвердило его правоту. Смысл данной теории состоит в том, что защита правового порядка во всем мире является обязанностью всех государств, соответственно, каждое государство, в котором находится обвиняемый, независимо от его гражданства, исходя из интересов единой международной юстиции, имеет не только право, но и обязанность его наказать или выдать.
Поддерживая данную теорию, Д. Никольский писал: «лицо, совершившее посягательство на интересы какого-либо государства, должно быть преследуемо везде, куда бы оно ни явилось. Ему нет нигде спасения от заслуженной кары закона» [12, с. 13].
Большая часть договоров о выдаче в период с начала XVIII в. до начала XIX в., заключалась между географически соседствующими государствами, более других испытывавших необходимость в оказании содействия друг другу в поимке и выдаче скрывающихся лиц, совершивших преступления [8, с. 93].
Важнейшим событием в истории института выдачи явилось принятие в 1833 г. в Бельгии первого в международной практике закона, в котором содержалась норма, ставшая своеобразной отправной точкой развития правового регулирования выдачи во многих других государствах. Впервые в истории выдачи в закон была включена норма о невыдаче лиц, подвергшихся преследованию у себя в стране за политическую деятельность, установившая правило: «иностранец не будет подвергнут преследованию ни за какое политическое преступление, предшествовавшее выдаче и ни за какой факт, связанный с подобным преступлением» [17, с. 330].
К. С. Родионов, оценивая значимость бельгийского закона для международной практики, отмечает: «Два фактора сделали этот закон известным в экстрадиционной практике: во-первых, он содержал в себе ... норму о невыдаче лиц, преследуемых за политическую деятельность, чего прежде не было; во-вторых, он положил начало всей мировой практике отказа от выдачи лиц, подвергшихся в родной стране преследованию за такую деятельность» [18, с. 832].
В 1874 г. Бельгия приняла специальный закон, полностью посвященный вопросам выдачи. Подобные законы затем были приняты в Голландии (1875 г.), Германии (1884 г.), Люксембурге (1888 г.), Перу (1888 г.), Швейцарии (1892 г.), Северо-Американских штатах (1895 г.) и Аргентине (1905 г.).
В договорах государств о международном сотрудничестве в XIX в. стало принято указывать виды преступлений, по которым была возможна выдача. Например, в Договоре, заключенном между Великобританией и Францией (1876 г.), был приведен перечень из 34 видов экстрадиционных преступлений. В дальнейшем перечни таких преступлений стали заменять единым положением, в соответствии с которым стороны обязывались выдавать лиц за совершение преступлений, наказываемых не ниже определенного срока лишения свободы (как правило, сроком не менее одного года, что, кстати, сохраняется и до настоящего времени).
В XIX веке в международной практике сформировалось правило о невыдаче собственных граждан, несмотря на место совершения ими преступления. Исключение в этом плане составляли Великобритания и Североамериканские Соединенные Штаты. Согласно постулатам англо-американской юстиции главное значение имело не подданство обвиняемого, а место совершения преступления (территориальная теория).
Наряду с расширением международного сотрудничества государств в сфере борьбы с преступностью возникла настоятельная необходимость в систематизации и кодификации норм о выдаче. Первым шагом на этом пути стала Оксфордская резолюция по вопросам выдачи лиц, совершивших преступления, принятая в 1880 г. на сессии Института международного права, на которой были поддержаны положения, предложенные Правительством Бельгии: «лица, виновные в политических преступлениях, не выдаются» [19, с. 517].
Немецкий ученый И. К. Блюнчли, выступая с докладом на этом форуме, обратил внимание на то, что «отсутствие общих договоров в высшей степени затрудняет правильные сношения государств. По вопросу выдачи приходится каждому отдельному случаю вступать в долгие часто бесплодные переговоры» [12, с. 213].
Примечательно, что в Оксфордской резолюции отмечалось, что «выдача может быть практикуема наиболее твердым и правильным образом только в том случае, когда существуют трактаты, поэтому желательно, чтобы число таковых возрастало», а «начало взаимности при выдаче может вытекать из видов политических, но не вытекает из начал права». В ней же отмечалось, что «в случае отсутствия соглашения о выдаче государства должны поощрять выдачу на основе взаимности» [2]. Данные проблемы затем обсуждались на заседаниях Ассоциации международного права, Международной пенитенциарной комиссии и других международных организаций [20, с. 268].
В дальнейшем число договоров о выдаче росло, совершенствовалась договорноправовая координация борьбы с преступлениями, затрагивающими интересы нескольких государств, были определены «экстрадиционные» преступления, утвердился принцип невыдачи собственных граждан, политические преступления стали исключаться из сферы выдачи, что, безусловно, способствовало углублению сотрудничества государств, становлению согласованных правил и принципов, регламентирующих выдачу гарантирующих права индивида в связи с ней.
В XX в. развитие института выдачи идет по пути окончательного признания положений о выдаче и заключения многосторонних договоров о выдаче в связи с необходимостью универсализации и упорядочения соответствующих соглашений. Под эгидой Лиги Наций предпринимается попытка подготовки проекта и заключения универсальной конвенции, которая должна была урегулировать сотрудничество всех государств в сфере выдачи, однако, к сожалению, так и не увенчавшаяся успехом [21, с. 35].
В 1924 г. был образован Комитет экспертов по прогрессивной кодификации международного права, одной из задач которого было изучение вопросов выдачи. В январе 1926 г. этот Комитет рекомендовал провести общую международную конференцию по вопросам выдачи. Однако никаких действий в дальнейшем в этом направлении произведено не было, хотя под руководством Гарвардской правовой школы был разработан Проект Конвенции о выдаче, в котором предлагалось при решении вопроса о выдаче отдавать предпочтение территориальной юрисдикции [22, с. 52].
В 1949 г. Комиссия международного права ООН исключила выдачу из списка институтов международного права, подлежащих кодификации, что объяснялось политическими обстоятельствами.
В конце 70-х годов XX в. Институтом международного права был создан специальный комитет для разработки проблем, связанных с выдачей. В его состав вошли представители разных государств – ФРГ, Италии, Канады, Колумбии и др. Комитет сформулировал несколько рекомендаций:
-
1) о необходимости сотрудничества государств друг с другом в соответствии с Уставом ООН, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 26 июня 1945 г .1;
-
2) об обязанности государств сотрудничать друг с другом по вопросам выдачи;
-
3) о выражении готовности предоставить выдачу при отсутствии специального договора о выдаче на основе взаимности [23, с. 78–81].
1 сентября 1983 г. Институт международного права на Кембриджской сессии принял Резолюцию «Новые проблемы выдачи лиц, совершивших преступления», в которой были сформулированы принципы сотрудничества государств в этой области. В частности, в ней указывалось, что по общему правилу государство обязано выдавать преступников только при наличии специального договора о выдаче, одновременно следует приветствовать выдачу преступников при отсутствии такого договора, но только на началах взаимности [23, с. 80].
Резюмируя изложенное, можно отметить, что древнейшая эпоха характеризуется неразвитостью межгосударственных отношений, а вопросы выдачи вызывались преимущественно случайными политическим моментами. Первоначально выдача означала лишь принудительное возвращение беглого подданного своему сюзерену, выдача рассматривалась не как акт правовой (судебной) помощи, а как уголовная кара. Зародившись как средство обеспечения права собственности феодала на зависимых от него людей, выдача постепенно переросла в средство возврата лиц, совершивших преступления.
Договоры о выдаче в собственном смысле слова в ранние эпохи развития человечества были исключительным явлением и заключались прежде всего против политических врагов и дезертиров.
Очевидно, что первоначально выдача не являлась правовым институтом и, не рассматривалась в качестве направления международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
Предпосылки института выдачи начали формироваться задолго до появления государств, но с возникновением государств он стал средством реализации уголовной политики и средством противодействия преступности на национальном и международном уровнях. Развитие международного сотрудничества по вопросам выдачи происходило в условиях разобщенности и постоянного военного соперничества между государствами, но в итоге получило договорное оформление. С учетом дальнейших модификаций концепций цель выдачи трансформировалась в обеспечение неотвратимости уголовной ответственности и наказания лица, совершившего преступление, скрывающегося на территории другого государства.
К середине XIX в. институт выдачи получил правовое обоснование и стал необходимым средством осуществления уголовной политики каждого суверенного государства.
Список литературы Возникновение и развитие зарубежного законодательства, регулировавшего выдачу лиц, совершивших преступления
- Гефтер, А. В. Европейское международное право / пер. К. Таубе. СПб.: Типография Безобразова и Кº, 1880. 619 с.
- Штиглиц, А. Исследование о выдаче преступников. СПб.: Типография братьев Пантелеевых, 1882. 239 с.
- Bedi, S. D. Extradition in International Law and Practic. Rotterdam: Bronder-Offset, 1966. 299 p.
- Галенская, Л. Н. Международная борьба с преступностью. М.: Международные отношения, 1972. 98 с.
- Буткевич, О. В. Международное право Древнего Египта // Государство и право. 2000. № 5. С. 75–84.
- Бойцов, А. И. Выдача преступников. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 795 с.
- Мартенс, Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов / под ред. Л. Н. Шестакова. В 2 т. Т. 2. СПб.: Типография Министерства путей сообщения (А. Бенке), 1883. 586 с.
- Елисеев, Р. А. История становления и развития международного уголовного права // Вестник Российского университета дружбы народов (РУДН). Серия Юридические науки. 2009. № 3. С. 89–104.
- Симсон, Э. К. О невыдаче собственных поданных. Международно-правовое исследование. СПб.: Типолитография Р. Голике, 1892. 430 с.
- Лукашук, И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право: учебник. М.: Спарк, 1999. 287 с.
- Шостак, Е. Я. О выдаче преступников по договорам России с иностранными державами. Киев: Универсальная типография И. И. Завадского, 1882. 50 с.
- Никольский, Д. О выдаче преступников по началам международного права СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1884. 554 с.
- Таганцев, Н. С. Лекции по русскому уголовному праву. В 2 вып. Вып. 1. Часть Общая. СПб.: Государственная типография, 1887. 478 с.
- Гроций, Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняется естественное право и право народов, а также принципы публичного права. В 2 кн. Книга вторая. СПб.: Типография П. П. Сойкина, 1902. 868 с.
- Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях. РадомЪ: Типолитография И. С. Тржебинского, 1875. 135 с.
- Bulmerincq, A. Das Asulrecht und Ausliefering fluchtiger Verbrecher. Dorpat: Gedruct bei J. C. Schunmann᾽s Wittwe & C. Mattesen, 1853. 164 p.
- Лист, Ф. Международное право в систематизированном изложении / пер. с нем. В. Э. Грабаря. 3-е русское изд-е, совершенно перераб. Юрьев (Дерпт): Типография К. Матисена, 1912. 574 с.
- Родионов, К. С. Закон Российской Империи 1911 г. Об экстрадиции // Государство и право. 2003. № 7. С. 80–91.
- Даневский, В. П. Выдача преступников и прения по ней в Оксфордской сессии Гентского института международного права // Юридический вестник. 1880. № 12. С. 517–563.
- Таганцев, Н. С. Русское уголовное право: лекции. Часть Общая часть. В 2 т. Т. 1. 2-е изд-е пересмотр. и доп. СПб.: Государственная типография, 1902. 815 с.
- Струк, Ю. Б. История формирования института выдачи лиц, совершивших преступление // Известия российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2007. Т. 7. № 25. С. 31–38.
- Шаргородский, М. Д. Выдача преступников и право убежища в международном праве // Вестник Ленинградского университета. 1947. № 8. С. 45–59.
- Павлова, И. В. Вопросы выдачи преступников в работе Института международного права // Вестник Московского университета. Серия 11 Право. 1985. № 1. С. 77–83.