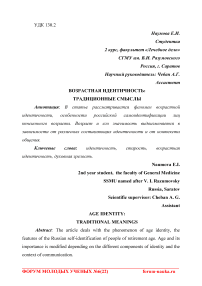Возрастная идентичность: традиционные смыслы
Автор: Наумова Е.И.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 6-2 (22), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен возрастной идентичности, особенности российской самоидентификации лиц пенсионного возраста. Возраст и его значимость видоизменяется в зависимости от различных составляющих идентичности и от контекста общения.
Идентичность, старость, возрастная идентичность, духовная зрелость
Короткий адрес: https://sciup.org/140283599
IDR: 140283599
Текст научной статьи Возрастная идентичность: традиционные смыслы
Смысловая нагрузка понятий молодости и старости динамична. С изменением личного возраста видоизменяется отношение к возрасту других. Идентичность является актуальным состоянием, складывающимся посредством механизма идентификации, формирующегося под влиянием условий, обстоятельств, жизненного опыта, целеполагания и анализа результатов. При этом значимость возраста неравноценна для разных возрастных групп. На протяжении веков люди грезили создать эликсир вечной молодости, для того чтобы продлить жизнь человека и сохранить тело красивым и здоровым. Тем не менее, с годами человек меняется как внешне, так и внутренне; трансформируется и его отношение к своему возрасту. Представления о базовых характеристиках возраста отличаются у разных этносов и культур. У представителей современной западной культуры начало жизни ассоциируется со здоровьем, красотой; зрелость – с силой, а старость – с увяданием и немощью. Такое положение вещей тяжело осознавать большей части человечества, стремящейся оставаться на протяжении всей жизни молодыми, красивыми, полными сил.
В современном обществе царит культ молодости, активности, высокого качества жизни, однако «забота о качестве жизни пожилого человека (и пожилого пациента в частности) разворачивается в апофатической плоскости, через отрицание/отторжение боли, болезни, признаков старения» [1, С. 36]. Старость считается периодом болезней, страданий и утраченных иллюзий. Отношение к старости как к этапу расцвета сил, мудрости, богатого жизненного опыта не культивируется, она стало редкостью.
Боязнь старости вызывает стресс, а стресс только усугубляет и ускоряет процесс старения, утрату способности использовать имеющиеся возможности. Возникает замкнутый круг: чем сильнее страх старости, тем скорее и «глубже» она приходит.
Молодежный возраст и его границы мобильны и определены культурными и социальными условиями взросления. В 2015 г. Всемирная организация здравоохранения обновила классификацию возраста: 25-44 – молодой возраст; 44-60 – средний возраст; 60-75 – пожилой возраст; 75-90 – старческий возраст; после 90 – долгожители.
Идентичность – это отношение, а не внутренне присущее свойство. Идентичность формируется в процессе взаимодействия. Проблема возрастной идентичности (наряду с гендерной, этнической и пр. идентичностями) актуализируется в эпоху модерна, постмодерна и метамодерна. Мы полагаем, что это вызвано тем, что предыдущие эпохи идентифицировали человека социальными мерками, на которые он фактически не мог повлиять. Современный же человек идентифицирует себя, выбирая определенный стиль поведения, что, естественно, реализуется прежде всего через возрастную идентичность.
Причисляя себя к той или иной возрастной группе, человек отождествляет себя с определенными социальными ролями. Соответствие нормам и ожиданиям своей возрастной группы дает человеку ощущение «правильности», однако может не полностью удовлетворять его внутренние потребности. В такой ситуации возникает определенный дисбаланс, при котором человек либо выполняет роли, к которым еще не готов, либо отождествляет себя с людьми младшей возрастной группы.
Конституирование «философии возраста как особой области становится для современной культуры возможной и необходимой» [2, С. 196]. Разрушение традиционных представлений о человеке и, соответственно, о его возрастах приводит и общество в целом, и каждого человека в отдельности к состоянию расфокусированности возрастного сознания и самосознания. И если раньше возраст был самопонятен, был естественной временной данностью, то сегодня в определенном смысле – это личный выбор человека. Возникает интересная проблема: подобно тому, как при естественной данности двух полов существует множество гендерных характеристик и идентичностей, так и при фиксированной темпоральной данности (количество прожитых лет) возможны весьма разнообразные модели возрастной самоидентификации.
Фактическое демографическое постарение общества означает, что доля людей старше 60 лет уверенно растет. И если в 1950 г. таких жителей было лишь 8% от общего числа жителей Земли, то, по прогнозам ООН, в 2050 г. их станет 21%. То есть количество жителей третьего возраста за эти сто лет увеличится почти в три раза по отношению к более молодым группам.
В России же постарение населения объясняется не столько увеличением продолжительности жизни пенсионеров, сколько снижением рождаемости. Такое постарение «снизу» (при котором рождается мало детей) дополняется тем, что возраст дожития россиян на пенсии невелик. И если в развитых странах Запада и Японии старение общества происходит «сверху» за счет улучшения качества жизни пенсионеров, активно пользующихся достижениями медицины, то в России третий возраст ассоциируется у большинства жителей не с заслуженным отдыхом, а немощью и беспомощностью.
В то же время «постоянно транслирующиеся негативные геронтостереотипы о бездеятельности, непродуктивности пожилого человека, как и все стереотипы общественного сознания, зачастую не отражают реального положения вещей. «Амортизация» пожилого человека нередко является именно моральной амортизацией» [3, С. 32]. Рассуждая подобным образом и дополняя аналогичные тезисы экономическими причинами (42 миллиона российских пенсионеров требуют ежемесячных выплат), правительство инициировало пенсионную реформу.
Однако анонсируемая в 2018 г. пенсионная реформа в России, основанная на увеличении возраста выхода на пенсию, не нашла поддержки у населения: 82% россиян выступают против нее [4]. ФОМ (Фонд
«Общественное мнение») приводит наиболее популярные аргументы противников и сторонников обсуждаемой пенсионной реформы. Примечательно, что аргумент обиды выказали оба лагеря, включая немногочисленных сторонников: увеличение пенсионного возраста воспринимается большинством опрошенных как обидное, как некое наказание [4, там же].
Несмотря на то, что 35% пенсионеров в России продолжают официально работать, зачастую это вызвано не тем, что они чувствуют себя полными энергии и рабочего энтузиазма, а - невысоким уровнем пенсионных выплат. Также трудовая активность пенсионеров позволяет им удовлетворять свои потребности в общении, в независимости (в том числе экономической), в привычном образе жизни, выстроенном вокруг трудового распорядка.
С точки зрения возрастной идентификации негативное отношение к пенсионной реформе означает определенный дисбаланс. С одной стороны, работающие российские пенсионеры (а их - свыше 14 миллионов на 2017 г.) активнее участвуют в жизни общества, «продлевая» тем самым свой средний возраст, отодвигая переход к позднему. В тоже время некая принудительность пенсионной трудовой активности (в условиях, при которых жить на одну только пенсию крайне затруднительно) оборачивается тем, что работающие пенсионеры не чувствуют себя свободными в своем решении. Найти и сохранить работу специалисту старше 45 лет уже затруднительно, а с увеличением пенсионного возраста эта проблема станет для россиян еще острее.
Ситуативный характер идентичности проявит свою динамическую сущность: 60-летняя женщина несколько лет назад именовалась пенсионеркой (со всем вытекающим отсюда эйджизмом), теперь же такая россиянка будет работающей. И это не может не сказаться на возрастной идентичности человека. Подобные вызовы возрастной идентичности требуют дальнейшего философского и психологического анализа.
Список литературы Возрастная идентичность: традиционные смыслы
- Кампос А.Д. Право на старение: опыт боли как вопрошание о смысле и качестве жизни / А.Д. Кампос, Э.Р. Фахрудинова // Клиническая геронтология. 2016. Т. 22, N 9-10. С. 36-37.
- Лишаев С.А. Возраст в истории европейской философии (историческое введение в философию возраста) С. 172-199.
- Кампос А.Д. Геронтофобия как обесценивание человека: социально-философский анализ / А.Д. Кампос, Э.Р. Фахрудинова // Клиническая геронтология. 2017. № 9-10. С. 32-33.
- http://fom.ru/posts/14043