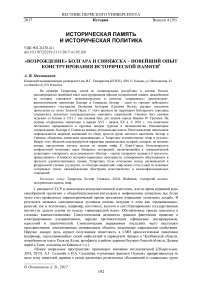"Возрождение" Болгара и Свияжска - новейший опыт конструирования исторической памяти
Автор: Овчинников Александр Викторович
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Историческая память и историческая политика
Статья в выпуске: 4 (39), 2017 года.
Бесплатный доступ
На примере Татарстана, одной из «национальных республик» в составе России, рассматривается новейший опыт конструирования образов исторической памяти, важнейшими из которых становятся позиционируемые в качестве «сакральных» архитектурно-археологические памятники Болгара и Свияжска. Болгар - один из городов небольшого средневекового государства Волжская Булгария (Средняя Волга), расцвет поселения приходится на эпоху Золотой Орды. С этого времени на территории Болгарского городища сохранилось несколько полуразрушенных каменных сооружений. Свияжск был основан недалеко от Казани в 1551 г. как военная база для захвата города Иваном IV Грозным. На острове сохранились монастыри и церкви XVI - начала XX в. С 2010 г. эти памятники постепенно превращаются в крупные центры туризма и паломничества. Инициатором «возрождения» Болгара и Свияжска явилась региональная власть. Восстановление памятников сопровождается широкой кампанией по сбору средств среди местного населения. Болгар и Свияжск объявлены символами проживающих в Татарстане соответственно татар и русских. Вокруг этих объектов конструируются нарративы национальных историй, которые, по мнению автора, продуктивно изучать исходя из теории мифа К. Леви-Строса. Констатируется конфликтный потенциал таких бинарных построений, заключающийся в «символической сегрегации» «татарского, мусульманского» (Болгар - «центр татарского ислама») и «русского, православного» (Свияжск) историко-сакральных пространств, одновременно объединяемых в пределах административных границ Татарстана. Если отношения между региональной и федеральной элитами ухудшатся, то «болгаро-свияжский» миф может стать одной из основных «отправных точек» квазиобъяснения обострения межэтнических и межконфессиональных отношений.
Татарстан, болгар, свияжск, м.ш. шаймиев, "татарский ислам", историческая память, миф
Короткий адрес: https://sciup.org/147203835
IDR: 147203835 | УДК: 902.2(470.41) | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-4-192-201
Текст научной статьи "Возрождение" Болгара и Свияжска - новейший опыт конструирования исторической памяти
С распадом СССР и демонтажем коммунистической идеологии, долгое время игравшей роль своеобразной «религии» с общеобязательными ритуалами и мифическими сюжетами, все более четко стал проявляться мировоззренческий кризис миллионов вчерашних «советских людей». В результате начались самодеятельные духовные поиски, ведущие в лоно как «традиционных» религий, так и экзотичных, например, восточных, культов и сект.Одновременно государственные институты делали усилия по поиску «национальной идеи». Обозначенные тренды находятся в сложных взаимоотношениях. Самостоятельная активность граждан фактически приводит к конструированию альтернативных, нередко противостоящих официально декларируемым, идеологий и идентичностей. Символическим выражением последних часто выступают пространственно локализованные материальные объекты, наделяемые сакральными свойствами. Нередко данную роль играют получившие известность в СМИ археологические памятники (например, «прославившийся» своей мифологией и паранаукой Аркаим в Челябинской области, погребения на плато Укок на Алтае, артефакты в районе деревни Окунево Омской области, Долина царей в Тыве, дольмены на Кавказе и т.д.).
«Новые сакральные пространства» привлекают внимание исследователей [ Шнирельман , 2014, 2015]. А.Г. Селезнёв и И.А. Селезнёва, изучающие феномен Окунево, превратившегося из мало кому известной деревни в центр различных религиозных объединений и социальных групп
[ Селезнев , 2014; Селезнева , 2014], в качестве методологического инструментария предлагают использовать разработанную А. Лидовым концепцию «иеротопии». Данное понятие означает «создание сакральных пространств, рассмотренное как особый вид творчества, а также как специальная область исторических исследований, в которой выявляются и анализируются конкретные примеры такого творчества» [ Селезнев, Селезнева , 2016, с. 78].
К перечисленным новым сакральным пространствам можно отнести окрестности села Свияжск в Зеленодольском районе и города Болгар в Спасском районе Татарстана. Находящиеся в их пределах архитектурные и археологические памятники с 2010 г. стали актуализироваться в региональной печати и за короткий срок из мало кому известных даже в Татарстане превратились в мощный центр туризма и паломничества, а их образы стали одними из главных символов этой средневолжской республики. Нарративы о сакральных памятниках Болгара и Свияжска сделались непременным атрибутом местных национальных историй. В официальных изданиях Болгар позиционируется как «...некое сакральное пространство, где включается генетический код памяти, где каждый ощущает себя частью цельного исторического полотна, сотканного за сотни веков поколениями предков» (Древний Болгар…, 2014, с. 8, 9). На одной из прошедших в Татарстане научных конференций признавалось, что «духовное пространство Свияжска наглядно демонстрирует вовлеченность территориально ограниченной сакральной единицы в глобальные процессы цивилизационного и духовного развития России во всей его разноплановости и многовекторности» ( Ермошин , 2015, с. 57).
Актуальность изучения «болгаро-свияжского» случая определяется тем, что он представляет собой новейший опыт конструирования основанных на образах исторической памяти региональной и этнорелигиозной идентичностей, а также ассоциируемых с ними сакральных мест. За последние шесть лет создан значительный корпус историографических, публицистических, электронных, аудиовизуальных и вещественных источников, позволяющих начать научный анализ данного явления. Характеризуя степень изученности темы, следует признать, что имеющиеся на сегодняшний день публикации татарстанских авторов, выдержанные в стиле «интеллектуального одобрения», представляют интерес в качестве источников исследования ( Бухараев, 2013 ; Бухараев, Мягков, Набиев, 2016; Валеев, 2016 и др.). Целью статьи является анализ особенностей и возможных последствий конструирования исторических образов Болгара и Свияжска в контексте региональной политики памяти, а также рассмотрение соответствующих нарративов с позиций теории мифа.
Главное отличие Болгара и Свияжска от перечисленных в начале статьи объектов мифотворчества заключается в том, что инициатором и главным актором их «возрождения» является региональная власть, небезуспешно стремящаяся к созданию собственной, лишь условно интегрированной с общефедеральной идеологии. О том, что «татарские мусульманские» и «русские православные» памятники стали частью «большой политики», говорит тот факт, что внимание на них было обращено после отставки президента Татарстана М.Ш. Шаймиева со своего поста, который он занимал с 1991 по 2010 г.
В 2010 г. начал деятельность некоммерческий Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан (далее – Фонд «Возрождение»), который возглавил М.Ш. Шаймиев. Главной целью фонда объявлялась реконструкция архитектурноархеологических памятников Болгара и Свижска. Болгар – один из городов небольшого средневекового государства Волжская Булгария, расцвет поселения приходится на золотоордынский период. С этого времени на территории Болгарского городища сохранилось несколько полуразрушенных каменных сооружений. Свияжск был основан недалеко от Казани в 1551 г. как военная база для захвата города Иваном IV Грозным. На острове сохранились монастыри и церкви XVI – начала XX в. До появления фонда остров Свияжск представлял собой труднодоступную и депрессивную территорию, на которой располагалась психиатрическая больница.
Болгар и Свияжск были объявлены символами проживающих в Татарстане соответственно татар и русских. «Возрождение» памятников стало ассоциироваться с вековыми добрососедскими отношениями между народами и восприниматься как очередной шаг на пути сохранения и упрочения межэтнического и межконфессионального мира в республике. Следует заметить, что сюжет «разных культур» и недопущения «межнационального конфликта» активно использовался элитой Татарстана еще в начале 1990-х гг. в ходе борьбы с Федеральным центром за ресурсы региона. После отставки М.Ш. Шаймиева в местных СМИ риторика «диалога культур и цивилизаций» заметно активизировалась, но в отличие от начала 1990-х гг. подчеркивались в основном позитивные и миролюбивые аспекты «межэтнического» взаимодействия. Однако оппозиционность общефедеральной идеологии все же давала о себе знать. Так, в одном из своих выступлений 2015 г. М.Ш. Шаймиев противопоставил концепту «русского мира» «мир ислама», который «пришел» в Татарстан через волжских булгар (Шаймиев, 2016, с. 5).
Если учесть, что в рамках официальной идеологии государственность Татарстана мыслится прежде всего как форма существования этнических групп (татар, русских и др.) с их народными («этнографическими») культурами, то, по моему мнению, не будет большим допущением признать неоязыческий характер этой идеологии. Так, М.Ш. Шаймиев, видимо, искренне не понимал, почему в Болгаре, именуемом центром «татарского ислама», нельзя установить двенадцатиметровую статую «Хранительницы» - фантастического чудовища в виде крылатого барса - тотема предков татар ( Минтимер Шаймиева , 2016). Остров-град Свияжск с его православными святынями все чаще ассоциируется с легендарным «островом Буяном». Каждое лето здесь, как и в Болгаре (Фестиваль средневекового…, 2016), проводятся реконструкции средневековых военных сражений, в большом количестве продаются «лубочные» предметы русской народной культуры (Комплекс исторической...).
Интереснейшим сюжетом является объявленный сразу же после отставки М.Ш. Шаймиева и продолжающийся вплоть до настоящего времени сбор добровольных пожертвований в Фонд «Возрождение». Видимо, мы имеем дело с архаичным политическим институтом, фиксируемым историками и социально-культурными антропологами в потестарных (и) или раннегосударственных образованиях и основанным на реципрокно-редистрибутивных («дарительно-перераспределительных») отношениях (подробнее см. [ Овчинников , 2016, с. 120]).
«Отдарок» неформальному лидеру может быть не только денежным или трудовым, но и символическим. Коллективы татарстанских историков стали буквально «воспевать» Болгар и Свияжск. Выяснилось, что в границах того же Болгара «сохранены все элементы, которые позволяют представить возникновение, ход и результаты эволюции важного для России и мира региона, жизнедеятельности людей и народов» (Валеев, 2016, с. 461). Реципрокные коннотации обнаруживаются, например, в утверждении о том, что «на протяжении более 15 веков этот объект (Болгар. - А.О. ) оказывал устойчивое воздействие на развитие архитектуры, технологий, монументального и декоративного искусства, градостроительства, сферы духовной культуры Евразии» (Валеев, 2016, с. 463).
В случае Болгара мифизация истории нередко граничит с её фальсификацией. Рассмотрим конкретные примеры. Вопреки сведениям исторических источников безапелляционно утверждается, что «именно здесь в 922 году предками современных татар добровольно был принят ислам» (Древний Болгар., 2014, с. 4). В «Записках» Ахмеда ибн-Фадлана, единственном дошедшем до нас источнике, повествующем о принятии правителем нескольких булгарских племен Алмушем ислама, о Болгаре ничего не говорится. Лично побывавший в 922 г. в Волжской Булгарии Ахмед ибн-Фадлан не увидел там никаких городов. Он констатировал, что у булгар «нет помещений, в которых они складывали бы свою пищу» (Путешествие., 2004, с. 31), и «все они [живут] в юртах, с той только разницей, что юрта царя очень большая … » (Путешествие…, 2004, с. 32). По ходу своего рассказа Ахмед ибн-Фадлан в качестве одного из мест нахождения ставки (в прямом смысле - юрты) Алмуша называет местность трех озер (Путешествие., 2004, с. 34). Видимо, это территория современного села Три Озера, примерно в 8 км от Болгарского городища. Однако точного указания на то, что именно здесь произошло официальное принятие ислама кочевником Алмушем, часто менявшим места своей ставки, в источнике нет. Географически определить этот район можно лишь приблизительно - пределы Западного Закамья. Между тем директор Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ А.Г. Ситдиков счел возможным «приписать» Ахмеду ибн Фадлану несуществующее сообщение о том, что якобы « в Болгаре есть мечеть » (Айрат Ситдиков., 2012).
За несколько лет до начала деятельности Фонда «Возрождение» и активного превращения Болгарского городища в центр «татарского ислама» другой сотрудник этого же института и признанный глава татарстанских булгароведов Ф.Ш. Хузин (Средневековая археология…, 2016)
место встречи правителя булгар с посольством багдадского халифа определял примерно в 50 км от Болгар, в районе с. Измери Спасского района Татарстана ( Хузин, 2009, с. 154).В своей монографии он утверждал, что «…посольство благополучно миновало округу современного Болгарского городища (выделено мною. – А.О. )и остановилось где-то в районе (рек. – А.О. ) Ахтая–Безды, недалеко от реки Атиль-Итиль (так называлось и нижнее течение Камы), где археологам хорошо известно несколько крупных торгово-ремесленных поселений X–XI вв. Среди них выделяется обширное (площадью около 60 га) Измерское поселение с чрезвычайно богатыми находками раннедомонгольского времени. Есть определенные основания локализовывать ставку Алмуша и место его встречи с посольством (багдадского халифа. – А.О. ) Муктадира именно в этом районе» ( Хузин , 2001, с. 135). Ф.Ш. Хузин поддерживал точку зрения своего учителя А.Х. Халикова о «всенародном» принятии ислама в районе р. Малый Черемшан, где возник Биляр – самый большой из булгарских городов (примерно в 87 км от Болгарапо прямой). Более того, Ф.Ш. Хузин предполагал, что ислам был принят в бывшем языческом святилище (урочище «Святой ключ», в котором до сих пор совершаются языческие ритуалы) ( Хузин , 2001, с. 136). В новых политических условиях эти построения оказались более чем неудобными, и Фаяз Шарипович вместе со своими многочисленными учениками не стремится опровергать миф о Болгаре как месте принятия волжскими булгарами ислама (тем более, что его в своих официальных выступлениях озвучивает М.Ш. Шаймиев: «Болгар – памятник IX–X веков, место добровольного принятия ислама на северных территориях») ( Шаймиев , 2015, с. 7).
Потребность в конструировании важного для татарского этнонационализма мифа о якобы прибывших в Болгар сахабах – сподвижниках пророка Мухаммеда (с недавних пор здесь хранятся его волосы – Сулейманов , 2016) и о связи возникновения города с походами «престижных» гуннов, которые «способствовали падению Рима и обеспечили переход от античности к периоду средневековья», заставляет искусственно удревнять возраст Болгарского городища до полутора тысяч лет ( Валеев , 2015, с. 144).
Идеологическая необходимость сакрализации Болгара вмешивается в дискуссию археологов, часть которых утверждает, что города в Волжской Булгарии появились только в 40-е гг. X в. или еще позднее ( Казаков , 2008, с. 34–39), т.е. через несколько десятилетий после принятия в 922 г. частью булгар ислама (противоположное мнение см. ( Хузин , 2011)). Официальные однозначные утверждения о Болгаре как столице Волжской Булгарии не согласуются с научным дискурсом, в рамках которого еще не закончена полемика между сторонниками столичности Биляра в X–XIII вв. ( Халиков , 1973) и исследователями, признающими столицами, соответственно, Болгар в X–XI, XIII– XIV вв., а Биляр – в XII в. ( Смирнов , 1972) (подробнее о дискуссии см.: Руденко , 2014, с. 505–508).
Видимо, главный секрет корпоративной «солидарности» татарстанских историков заключается во все тех же реципрокных обязательствах ученого перед коллективом, а коллектива перед властью – центром перераспределения ресурсов (судя по данным открытых аукционов, суммы контрактов только на архитектурно-археологические и антропологические исследования материалов Болгара и Свияжска составляют сотни миллионов рублей – Юдкевич , 2016).
Реципрокный компонент социально-политических отношений не мог не сказаться на самой мифологеме. По моему мнению, существует определенная связь между известной бинарностью мифа и феноменом реципрокности. Дарообмен предполагает наличие бинарных оппозиций и, видимо, неотделим от мифического мышления. Таковым по отношению к профессиональному историческому знанию, особенно к его методологической основе, является совокупность обыденных представлений об историческом прошлом. В этой связи следует обратить внимание на феномен, который можно условно назвать «коллективной интеллектуальной собственностью». Причем «главным собственником-историком» выступает высший чиновник, взгляды которого конкретизирует целая пирамида «нижестоящих», в которую входят и профессиональные ученые. Имеющий базовое сельскохозяйственное образование М.Ш. Шаймиев после отставки с поста президента увлекся историей и археологией. В одном из интервью он заявил буквально следующее: « … Серьезному ученому я бы предложил обратить внимание на мой свежий взгляд. Я ведь труды изучаю и наших ученых, и не только наших, историю и булгар, и татар, золотоордынский период» (Минтимер Шаймиев…, 2016). Вряд ли этот «свежий взгляд» вызовет возражения, наоборот, он будет развернут, дополнен и проиллюстрирован тщательно отобранным фактологическим материалом.
Активно транслируемые в массовое сознание исторические образы Болгара и Свияжска, на мой взгляд, продуктивно рассматривать исходя из теории мифа К. Леви-Строса. Противостоящими элементами мифической бинарной системы «История Татарстана» выступают Болгар («памятники татарской истории») и Свияжск («памятники русской истории»). Это противопоставление является частным случаем более широкой бинарной оппозиции: «русский народ» - «татарский народ». Через призмуеё «объясняется» вся палитра социально-экономических и политических отношений (тотально-синкретическая особенность этнического мифа особенно ярко проявляется в материалах региональных энциклопедических изданий) [ Овчинников , 2013, с. 83]. Русский и татарский народы и их предки обменивались и обмениваются важными друг для друга элементами культуры, языка, хозяйства и т.д., оставаясь при этом отдельными культурными общностями. В дискурсе «болгаросвияжского» мифа отмечается, что мир и добрососедство между жителями древней столицы (т.е. Болгара) стали базой для процветания в ней ремесел и искусства, науки и образования, медицины и торговли (Древний Болгар., 2014, с. 9). Нормальный дарообмен - залог спокойствия, стабильности и недопущения конфликта, символом чего являются «благие дела» в отношении святынь двух состоящих в обменных отношениях сторон. Так, премьер-министр Татарстана «Ильдар Халиков отметил, что одновременное возрождение Болгара и Свияжска будет способствовать сохранению и укреплению межрелигиозного и межнационального согласия в республике» (Государственный Советник…, 2010). Казанские интеллектуалы мысль руководства конкретизируют с помощью все той же реципрокной схемы, но обретшей наукообразный вид: «В ... неоднозначной социально-культурной ситуации был сделан выбор в пользу конструирования интегрированной памяти татарского и русского населения на основе признания самоценности их культур и религий» ( Бухараев, Мягков, Набиев , 2016, с. 301).
В традиционных обществах реципрокность была тесно связана с феноменом пира, который являлся концентрацией и одновременно выражением многих сторон общественных отношений. Презентующие опыт взаимодействия народов в прошлом нарративы этнонациональных историй актуализируют прошлое для настоящего, благодаря чему, как мне кажется, символически воссоздаётся ситуация пира [ Овчинников , 2015а, с. 240]. Ещё в начале XX в. известный татарский поэт Г. Тукай писал, что «. в древние времена наша нация вместе с друзьями и товарищами -другими нациями жила себе тихо, бедно и безрадостно. Несколько веков чаевничала с ними как сотрапезница, и все вместе, не сытно и не голодно, спокойно и мирно жили свои дни» ( Тукай , 2016, с. 1). Мотив «трапезы народов» присутствует и «болгаро-свияжском» мифе: «Перекликающиеся над водными просторами речитатив муэдзина, звон церковных колоколов, звук молота, преобразующего металл в руках ремесленника, запах свежеиспеченного хлеба, приглашающий нас к дружеской трапезе, и небо, сияющее куполом, объемлющее город, - вот что такое сегодняшний Болгар» (Древний Болгар..., 2014, с. 8).
Согласно К. Леви-Стросу, бинарные оппозиции уравновешивают образы-медиаторы. В данном случае, на мой взгляд, можно выделить три таких медиатора: персональный (пропагандируемый образ М.Ш. Шаймиева как политика, не допускающего межнационального конфликта) и два территориальных: Волга - река, на берегах которой находятся Болгар и Свияжск, а также Казань - «древняя столица Татарстана, находящаяся на пути из Болгара в Свияжск». Например, открывая одно из совещаний, «Президент Татарстана отметил, что … на одной земле, на берегу Волги будет показан пример мирного сосуществования двух религий - ислама и православия» (Минтимер Шаймиев…, 2010). В одном из выступлений М.Ш. Шаймиев высказался о том, что «Болгар и Свияжск как культурно-исторические и духовные жемчужины республики имеют немало общего. Их объединяет великая река Волга» (Минтимер Шаймиев, 2015, с. 7), в другой раз он констатировал: «Как Болгар, так и Свияжск находятся на берегах Волги. Это великая русская река; Казань - это город, где веками мирно живут татары и русские, отлично уживаются православие и ислам» (Минтимер Шаймиев., 2010).
Болгар и Свияжск на своём уровне также выполняют роль медиаторов. В Болгаре актуализируются Соборная мечеть и Успенский Собор. В местной печати периодически возникают споры о русских (славянских) памятниках в Болгаре ( Таджи , 2013) и татарских - в Свияжске ( Шаймарданов , 2012). Образы Болгара и Свияжска уравновешивают в исторической перспективе образы «Запада» и «Востока». Так, с Болгаром связывают походы гуннов и монголо-татар с
Востока на Запад, а со Свияжском – продвижение с Запада на Восток границ Российского государства в середине XVI в. ( Валеев , 2016, с. 462).
По К. Леви-Стросу, мифический сюжет в своем развитии переживает двойную перестановку функций, когда исходные противопоставления должны несколько раз изменить свою функциональную определенность, что придаёт мифу целостность и завершенность [ Найдыш , 2010, с. 379]. Это положение подтверждается материалами «болгаро-свияжского» мифа. Как однажды отметил М.Ш. Шаймиев, «мы много говорим о потерях истории, они есть у каждого народа. У булгар было самостоятельное государство. А впоследствии оно попало в определенную зависимость. История каждого народа очень сложная. Кого-то завоевывали, кто-то сам побеждал» (Минтимер Шаймиев…, 2010).
Согласно логике мифа в зависимости от конкретных обстоятельств главный персонаж проявляет себя с противоположных (положительной и отрицательной) сторон [ Найдыш , 2010, с. 379]. В связанной с Болгаром и Свияжском риторике можно часто услышать, что в истории взаимодействия русского и татарского народов были разные периоды, в том числе времена конфликтов. Другими словами, образ народа, а это, безусловно, один из главных персонажей мифа, несет в себе противоположные черты – «завоевателя» и «доброго соседа». Например, Свияжск позиционируется, с одной стороны, как база войск Ивана IV Грозного для завоевания Казани, с другой – как форпост православия в регионе и точка отсчета диалога двух культур.
Реципрокный «болгаро-свияжский» исторический миф, положенный в основу конструирования исторической памяти, на мой взгляд, имеет лишь видимость культурной консолидации и разрешения (между прочим, также конструируемых) проблем межэтнических и межрелигиозных отношений. Во-первых, вопреки мнению одного из казанских авторов, « возбужденная историческая память » ( Бухараев , 2013, с. 72) отнюдь не умиротворяется, даже если бинарные образы наделяются положительными коннотациями. Если говорят: не думайте об «оранжевом апельсине» – о нем, конечно же, думают. Если бесконечно, как магическое заклинание, произносят формулу о толерантных межэтнических и межконфессиональных отношениях и недопущении межнационального конфликта, то сознание автоматически представляет и противоположный сюжет. Во-вторых, в духе культурного расизма, идеологии европейских «новых правых» (подробнее см. [ Шнирельман , 2011, с. 151]), происходит символическая расиализация и сегрегация населения, «освященная» настойчиво актуализируемыми «сакральными местами». С учетом того, что в Татарстане разворачиваются ещё и так называемые «этногенетические исследования» (выясняются генотипы татар и русских – Минтимер Шаймиев…, 2015; Фадеева, Казанцев, Вильданова , 2015), культурный расизм путем конструирования образов историко-культурно-кровных «Других» имеет все шансы перейти в расизм биологический. В-третьих, вполне может быть заложен потенциал будущих конфликтов, так как реципрокность сама по себе конфликтогенна – сегодняшний плюс легко переходит в завтрашний минус. «Трапеза народов», что особенно в российских условиях всегда имеют в виду участники застолий, может превратиться в нечто иное. Если отношения между региональной и федеральной элитами обострятся (как было в начале 1990-х гг.), то те же самые болгарские памятники могут «превратиться» в «святой символ многовековой борьбы Татарстана за свои права», а о Свияжске заговорят прежде всего как о базе завоевательных походов Ивана IV Грозного.
Таким образом, анализ конструирования «болгаро-свияжского» мифа позволяет проследить особенности формирования исторической памяти в условиях региональной политической ситуации. Сами образы прошлого презентуются через сакрализуемые материальные объекты и соответствующие тексты, становящиеся обязательными для выказывания внешнего (т.е. не всегда искреннего) признания. Сам процесс признания, осуществляемый в основном через организацию разного рода мероприятий, во многом напоминает ритуал – акт, чья подготовка требует активации политических, социальных и экономических механизмов. Исторические нарративы оказываются их частью, что открывает широкие возможности для комплексного изучения феномена исторической памяти как современного общественного явления.
Список литературы "Возрождение" Болгара и Свияжска - новейший опыт конструирования исторической памяти
- Найдыш В.М. Мифология: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2010. 432 с.
- Овчинников А.В. Этнонациональный дискурс в материалах Татарского энциклопедического словаря и Татарской энциклопедии (анализ методологических оснований)//История России и Татарстана: проблемы энциклопедических и науковедческих исследований: Сб. статей итоговой науч.-практ. конф. науч. сотр. Института Татарской энциклопедии АН РТ (г. Казань, 3-4 июня 2013 г.)/Ин-т Татар. энциклопедии АН РТ. Казань: Изд-во ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», 2013. Вып. 5. С. 79-85.
- Овчинников А.В. Роль национальных историй в конструировании социально-политического неравенства (по материалам Республики Татарстан)//История и теория цивилизаций: в поисках методологических перспектив: науч.-практич. конф., 29 сентября -3 октября 2014 г./отв. ред. Ф.Е. Ажимов. Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2015а. С. 234-242.
- Овчинников А.В. «Татарский ислам» в сравнении (к проблеме исламского корпоративизма)//Мусульманский мир. 2015б. № 4 (октябрь-декабрь). С. 113-121.
- Овчинников А.В. Потестарные механизмы власти в современной России (на примере Республики Татарстан)//Власть и насилие в незападных обществах: актуальные проблемы исследований: Сб. тез./под ред. Г.В. Лукьянова, А.Л. Рябинина, С.А. Рагозиной, И.А. Артемьева. М.: Изд-во ГБПОУ «Моск. гос. образоват. комплекс», 2016. С. 119-120.
- Селезнёв А.Г. Новая мифология истории: архетип «древних цивилизаций» и сакральный центр в районе деревни Окунево//Этнограф. обозрение. 2014. № 5. С. 41-59.
- Селезнёва И.А. Сакральный центр и внешний мир: проблемы взаимодействия//Этнограф. обозрение. 2014. № 5. С. 59-73.
- Селезнев А.Г., Селезнева И.А. Новые сакральные пространства, изобретение истории и глобальная информационная среда: деревня Окунево в Западной Сибири//Вестник Омского университета. Сер.: Исторические науки. 2016. № 3 (11). С. 76-86.
- Шнирельман В.А. «Порог толерантности»: Идеология и практика нового расизма: в 2 т. М.: НЛО, 2011. Т. 1. 552 с.
- Шнирельман В.А. Места силы: конструирование сакрального пространства. Введение к дискуссии // Этнограф. обозрение. 2014. № 5. С. 3-9.
- Шнирельман В.А. Конструирование исторического наследия -случай Аркаима//Сибирские ист. исследования. 2015. № 2. С. 53-65.