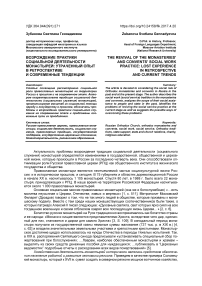Возрождение практики социальной деятельности монастырей: утраченный опыт в ретроспективе и современные тенденции
Автор: Зубанова Светлана Геннадиевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению социальной роли православных монастырей на территории России в прошлом и на современном этапе. Автором охарактеризована традиция социальной деятельности (социального служения) монастырей, проанализирован масштаб их социальной помощи народу и государству в прошлом, обозначены проблемы в возрождении практики социального служения на современном этапе и предложены возможные пути их преодоления.
Русская православная церковь, православные монастыри, социальная деятельность, социальное служение, православные традиции, государственная поддержка, государственно-церковные отношения, благотворительность, религиозное образование
Короткий адрес: https://sciup.org/14941253
IDR: 14941253 | УДК: 364.044(091):271 | DOI: 10.24158/fik.2017.4.20
Текст научной статьи Возрождение практики социальной деятельности монастырей: утраченный опыт в ретроспективе и современные тенденции
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Актуальность проблемы возрождения традиции социальной деятельности (социального служения) монастырей определяется изменениями в государственной, общественной и церковной жизни, которые произошли в России за последнюю четверть века. Они способствовали оптимизации роли Русской православной церкви (РПЦ) как общественного института в жизни всего государства и общества.
Православные монастыри являются неотъемлемой частью социокультурной жизни России: и в историческом прошлом, и сегодня. В 75 губерниях и областях дореволюционной России в начале XX в. насчитывалось 1 105 монастырей. Спустя 80 лет, в 1988 г. было всего 22 монастыря, принадлежащих к РПЦ. В наше время на территории Российской Федерации насчитывается около 1 000 православных монастырей.
Основная социальная миссия православных монастырей (она же и богослужебная) «…есть молитва неусыпная о Церкви, Отечестве, живых и мертвых» [1, c. 511]. Митрополит Московский Филарет (Дроздов) говорил о том, что не так много людей в обществе, которые призваны к монашескому подвигу. Вместе с тем среди наших монашествующих соотечественников были такие, о которых патриарх Алексий II писал следующее: «Духовные светила, свет которых ярко сиял на всю тогдашнюю вселенную и своим отблеском озарял всю последующую жизнь Церкви…» [2, с. 6].
Богатство русских монастырей на Руси традиционно воспринималось как богатство страны и ее народа: «Монахи и нищие являются представителями Христа, вследствие чего дар, сделанный для них, становится и даром для самого Христа» [3, S. 109]. В синодальный период монастыри получали из государственной казны немалые суммы жалования (737 тыс. р. в XIX в.) [4, с. 62] и владели значительными земельными участками и крепостными крестьянами. Монастырское достояние щедро использовалось на нужды Отечества в периоды тяжелых испытаний. Так, в XIX в. распоряжения Святейшего синода предписывали «устанавливать специальный сбор пожертвований при богослужениях; …Лаврам, наиболее обеспеченным монастырям и храмам – выделять из своих средств денежные пособия для нуждающихся; …публиковать в “Церковных ведомостях” подробные отчеты о расходовании всех видов пожертвований» [5].
Хозяйственная деятельность монастырей исторически являлась средством обеспечения населения работой и развития экономики региона. Приведем в качестве примера Соловецкий монастырь, который к XVII в. сумел создать в северном регионе мощное вотчинное хозяйство, способствовавшее укреплению экономики всей территории. Монастырь обеспечивал работой не только монахов и трудников, но и наемных работников, что способствовало росту старых и появлению новых поселений, организовывал товарообмен, ежегодно продавал более 2 000 т соли, распространял передовые технологии судостроения, гидротехники, каменного зодчества и пр.
Архивными документами другого монастыря – Козельской Введенской Оптиной пустыни – подтверждается то, что в XIX столетии социальное служение монастырей характеризовалось разнообразием социальной помощи народу: пострадавшим от пожаров монастырь разрешал рубить лес для постройки домов [6, л. 1], охотиться в монастырских лесах [7, л. 3]; древесный уголь, производимый Оптиной пустынью, благотворительно поставлялся заводам [8, л. 5].
Монастыри основывались в местах, удаленных от населенных пунктов. Рядом с отстраивающимися обителями постепенно образовывались поселения. Так, например, возникли город Устюг Вологодской области (около Троице-Гледенского монастыря), город Ветлуга Нижегородской области (около Троицко-Варнавинского мужского монастыря), город Кашин Тверской области (около Ка-лязинского Троицкого Макарьева монастыря) и многие другие. Еще один пример – православный монастырь, появившийся на территории Южного Урала до XVIII в., – Далматовский Успенский монастырь, ставший центром распространения православия и основной базой строителей храмов в регионе [9, р. 55–56].
К социальной деятельности монастырей относятся их патриотическое служение в годы тяжелых для народа испытаний , помощь раненым воинам. О влиянии монашества на национальное самосознание российского народа писал известный историк И.К. Смолич: «…Задача формирования национального самосознания складывавшегося Русского государства главным образом… решалась древнерусским иночеством» [10, с. 30].
Во времена Сергия Радонежского на Куликовом поле погибли иноки Пересвет и Ослябя. В период междуцарствия Троице-Сергиева лавра защитила от иноземных захватчиков территорию монастыря. Петр I использовал материальную помощь от русских монастырей для обороны страны. В XVI в. при покушении Швеции на русские северные владения Соловецкий монастырь превратился в центр обороны: «При поддержке центральной власти он создал в юго-западном Беломорье целую оборонительную систему» [11, с. 34].
Помимо Соловецкого монастыря и другие обители (Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Тихвинский монастырь, Калязинский Троицкий Макарьев монастырь, Троице-Сергиева лавра и др.) окружали себя каменными стенами и надежно охраняли от неприятеля рубежи родины.
В 1722 г. к обязанностям монастырского приказа была отнесена забота о бедных военных чинах. Особенно выделялась благотворительностью Троице-Сергиева лавра: при продолжительной по времени осаде ее поляками под командованием К.Л. Сапеги монастырь содержал на своем попечении 15 000 человек, среди которых были женщины и дети. Когда осада была снята, за монастырем были построены больницы и лазареты для оказания помощи раненым и больным моровой язвой.
В отделе рукописей РГБ сохранился большой архивный комплекс документов, свидетельствующих о социальном служении монахов в период Русско-турецкой войны: об открытии лазарета в августе 1877 г. при монастырской больнице Оптиной пустыни [12, л. 3], о воинских чинах на излечении в лазарете от механических повреждений [13, л. 6–7], «10-дневные посуточные ведомости о числе раненых и больных» [14, л. 12], «именные списки нижних чинов, прибывших на излечение в Оптину пустынь…» [15, л. 68–69]. Опыт Козельского монастыря не был единичным: по Указу Святейшего синода 1876–1877 гг. все мужские и женские монастыри создавали из числа монашествующих отряды «сердобольных братьев и сестер». Так РПЦ через монастыри оказывала помощь российской армии.
Особенно ярко проявился патриотический дух русского православного монашества в служении во время Отечественной войны 1812 г. «Уклоняясь от смерти за честь, веру и за свободу Отечества, ты умрешь преступником или рабом; умри за веру и Отечество – ты примешь жизнь и венец на небе», – вдохновлял паству митрополит Московский Филарет (Дроздов) [16, с. 89].
Монастыри жертвовали средства на ведение освободительной войны. В 1812 г. Священный синод пожертвовал для русской армии 1,5 млн р. из своего капитала, а после окончания войны – еще 3,5 млн р. на восстановительные работы [17, л. 77–78].
Профессор О.Ю. Васильева обоснованно заключает: «Патриотическая деятельность Русской православной церкви в годы войны явилась не только заметной, но и существенно необходимой, выражала естественные чувства принадлежности граждан к Родине» [18, с. 107].
Монастыри различными способами оказывали нуждающимся благотворительную помощь: в них кормили, лечили, учили, давали приют и возможность трудиться. Так, например, в архивных документах Святейшего синода за XIX в. сфера социальной деятельности монастырей определяется следующим образом: «Монастыри Православной церкви… находят средства к принятию в среду монашествующей братии мирян, нуждающихся в духовном врачевании, а сверх того и к устройству благотворительных учреждений для мирян, как школы, приюты, богадельни, больницы, странноприимные дома…» [19, л. 30].
По инициативе царя Федора Алексеевича решением земского собора 1861 г. в епархиях были организованы пристанища для неимущих. Белозерский Кириллов монастырь, Троице-Сер-гиева лавра и другие монастыри основали больницы и богадельни. Оптина пустынь была известна в XIX в. своими инвалидным домом, детским приютом и богадельней [20, л. 4].
К социальной деятельности монастырей дореволюционного периода относится их участие в деле народного просвещения, воспитания, образования, а также миссионерская деятельность . Монастыри занимались обучением народа грамоте, организацией при монастырях училищ, школ иконописи, открывали духовные семинарии, многие из которых действуют и сейчас, распространяли духовную литературу, создавали библиотечные фонды, в которых сохраняли книги, имеющие историческую ценность. Так, например, обучение народа элементарной грамотности на Восточном Урале в начале XVIII в. было начато в Верхотурском Николаевском и Далма-товском Успенском мужском монастырях, которые в дальнейшем превратились в известные на всю страну центры распространения духовной культуры [21].
Высочайший Указ 1823 г. расширил систему духовных учебных заведений, разрешив удостаивать сана архимандрита монахов, отличившихся особой ученостью, но не являющихся настоятелями [22, с. 30–31]. Если в начале XIX в. в России числилось 37 православных семинарий и 76 архиерейских школ (низших духовных учебных заведений), то в 1838 г. их количество возросло соответственно до 44 и 159, а к 1854 г. – до 48 и 223 [23, с. 14]. Высшими духовными учебными заведениями были духовные академии в Петербурге, Москве, Казани и Киеве.
Примером одного из направлений социального служения монастырей – миссионерской деятельности – является установившаяся практика Соловецкого монастыря в отношении нерусского населения северного края. Для распространения православия была создана целая сеть приходов на берегах Белого моря. Монастырские проповедники Кукша, Герасим Вологодский, Авраамий Болгарский, Стефан Пермский, Исайя и Авраамий Ростовские несли в языческую среду евангельские истины. Основанные ими монастыри служили оплотом распространения и укрепления православия.
Монастыри, принимая тысячи паломников, предоставляли жилье и питание, занимались воспитанием, духовным просвещением народа, строго следили за нравственностью своих прихожан: «…Мирянам монастырских волостей строго запрещались азартные игры, винокурение и винопитие. Нарушителей ожидали штрафы или даже изгнание из монастырских земель» [24, с. 30].
Так же как и обучение христианской вере и нравственности народа, издательское дело в монастырях особым образом сказывалось на повышении духовно-нравственной культуры общества . Часть своих средств монастыри направляли на издательство религиозно-просветительной литературы, распространяемой в народе. Благодаря монастырям до нас дошли уникальные памятники книжной культуры XVII–XIX вв. Жанры проповеди и летописи являются памятниками религиозно-нравственного социального служения всех российских монастырей.
Значительным было влияние ученого монашества на отечественную культуру в XIX в.: в духовном попечении ученого монашества особенно нуждалась образованная часть российского общества – интеллигенция, создававшая светскую культуру. Видными представителями ученого монашества XIX в. являются: святители Феофан Затворник и Иннокентий Херсонский, митрополит Евгений (Болховитинов) – историк, археограф, библиограф и археолог, митрополит Макарий (Булгаков), митрополит Киевский Филарет (Амфитеатров), архиепископ Филарет (Гумилевский), епископ Игнатий (Брянчанинов), архимандрит Порфирий (Успенский) – востоковед, археолог и археограф, монах Иакинф (Н.Я. Бичурин) – основатель русского китаеведения.
Архивные данные свидетельствуют, что в Оптиной пустыни в 1889 г. насельниками были 148 ученых монахов [25, л. 18], которые своими трудами создали библиотеку монастыря, насчитывавшую 5 тыс. книг [26, л. 21].
Социальное служение Оптиной пустыни было особенным в сравнении с другими обителями: ее книгоиздательская деятельность в XIX в. имела всероссийский размах, а по степени учености монашеская братия данной обители превосходила все остальные.
Влияние святоотеческой литературы и православных монастырских старцев нашло отражение в иконографии и живописи, архитектуре, музыкальной культуре, литературе и театре, русской религиозной философии и сказалось на развитии отечественного меценатства.
Особый вид социальной деятельности монастырей - помощь пенитенциарным учреждениям в осуществлении надзора за «неблагонадежными» . Однако со второй половины XIX в. заточение в монастырь стало применяться значительно реже [27]. Указ Святейшего синода 1851 г. гласил: «Заключение светских людей в монастыри… не достигает цели и стеснительно для самих монастырей», поэтому Синод предписывал отбывать наказание «негласно, под надзором отца духовнаго…» [28, с. 398].
Характеризуя социальную деятельность православных монастырей РПЦ на современном этапе , отметим, что в XXI в. эта деятельность впервые стала регулироваться официальными документами. В 2000 г. были приняты «Основы социальной концепции РПЦ», а в 2011 г. впервые был принят документ РПЦ « О принципах организации социальной работы…». В числе многих задач для приходов и епархий в документе поставлены конкретные задачи по социальному служению перед православными монастырями: «Монастыри, являясь центрами аскетического подвига и молитвы, издревле участвовали в делах милосердия и благотворительности. При обителях устраивались церковные богадельни, приюты, благотворительные трапезные для неимущих. Монастыри могут осуществлять с учетом особенностей их внутренней жизни те же виды социального служения…» [29].
Оценивая социальную активность монастырей на современном этапе, нельзя не учитывать, что в России практически нет монастырей, служение которых не прерывалось в советский период (исключение составляет Псково-Печерский монастырь, который за свою историю – 544 года – никогда не закрывался). Поэтому современное состояние большинства монастырей РПЦ не позволяет говорить о полномасштабном возрождении практики их социального служения. В ряде случаев государство демонстрирует готовность оказать содействие РПЦ в восстановлении разрушенных обителей. Примером такого монастыря, восстанавливаемого с помощью государства, является Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, который с 1992 г. является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1995 г. значится в Государственном своде особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. Другой пример социально ответственного отношения государства к православным святыням: в 2016 г. в связи с подготовкой к празднованию 1000-летия русского присутствия на Святой горе был создан специальный фонд и произведены огромные реставрационные, строительные и восстановительные работы.
Однако большинство разрушенных в советский период православных монастырей восстанавливаются на пожертвованные средства паломников и прихожан, поэтому процесс осуществляется медленно. В этих условиях рассчитывать на былой размах социальной помощи монастырей не приходится. Кроме того, к началу XXI в. за 70 лет атеистической эпохи из памяти народа стерлись некоторые веками жившие религиозные традиции, в том числе и традиции социального служения. Их возрождение сопряжено с необходимостью изучения утраченного опыта и с его возрождением в контексте современных условий.
В одном из своих выступлений Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл ставит задачи перед монашескими общинами, которые «…должны быть лидерами в совершении добрых дел… Часто ли мы кормим голодных? …Помогаем человеку в крайней нужде? …Одеваем людей, посещаем их в скорбях, протягиваем руку помощи? Более того: часто ли мы о них думаем?» [30]. В этих словах – напоминание патриарха монашествующим о божественных заповедях, которые учат быть милосердными, делать добро и оказывать безвозмездную помощь ближнему.
В наше время большинство монастырей стремятся совмещать восстановительные работы и социальную деятельность, например через создание приюта или открытие детского дома . Сегодня эта форма социального служения развивается во многих монастырях, в том числе и в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, Стефано-Махрищском, Саввино-Сторожевском, Московском Покровском и Покровском Хотьковском монастырях, в Богоявленско-Анастасиином женском монастыре (город Кострома), в Свято-Георгиевском женском монастыре Пятигорской и Черкесской епархии и в других монастырях.
В Марфо-Мариинской обители милосердия создан Центр семейного устройства, который призван оказывать всестороннюю помощь семьям с приемными детьми, комплексное сопровождение замещающим семьям и семьям в кризисных ситуациях, содействовать укреплению семей, предотвращать отказы от детей и их возврат в учреждения для детей-сирот. Также опыт попечения о детских домах накоплен в Николо-Угрешском монастыре, Казанском девичьем монастыре (город Калуга).
Помощь престарелым, эта востребованная и социально значимая сфера общественного служения, в настоящее время развита в монастырях достаточно слабо. Сегодня функционирует совсем незначительное количество учреждений подобного типа (не более десяти), причем в некоторых из них число проживающих не превышает 10 человек. В качестве положительного примера приведем Свято-Казанскую Амвросиевскую пустынь, в богадельне которой проживают 35 человек и организован благотворительный медицинский центр, обслуживающий жителей окрестных деревень, насельников и паломников монастыря. В Богоявленско-Анастасиином женском монастыре Костромы более 25 лет действует богадельня для инвалидов.
Востребованной формой современной социальной деятельности монастырей является создание сестричеств . Примером может служить Казанский девичий монастырь в Калуге, а также Марфо-Мариинская обитель милосердия, в которой создана Ассоциация сестричеств для развития и совершенствования церковного социального служения.
Создание социальных центров при монастырях - тоже современное веяние. Пример успешной деятельности такого центра, названного именем святителя Тихона, имеется в Донском монастыре. При нем есть постоянный консультант центра, эксперт по социальному сиротству. В направления работы социального центра входят: поддержка выпускниц детских домов, патронат центра адаптации в Калужской области, работа с трудными подростками и заключенными. Дети из неблагополучных семей - серьезная проблема современности, для решения которой требуется помощь монастырей. Есть позитивные примеры: так, социальный центр Данилова монастыря патронирует учащихся школы-интерната в городе Кольчугино Владимирской области; Введенский женский монастырь города Иваново опекает безнадзорных детей и детей-сирот, а также помогает малоимущим, женщинам в кризисной ситуации, замещающим семьям. Особенно значимая помощь оказывается инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, детям-инвалидам.
Есть и уникальные современные социальные практики в монастырях - например, в московском Симоновом монастыре создана община слепоглухонемых, глухонемых и слабослышащих православных христиан .
Монастыри в наше время взаимодействуют с тюрьмами и исправительными учреждениями в целях оказания нравственно-психологической помощи заключенным . Тюремное служение монастыря предполагает проведение литургии, причастие, исповедь, катехизаторские беседы, поздравление с церковными праздниками.
Отметим еще одну важную форму социальной деятельности на современном этапе - создание обществ трезвости и борьба с пьянством и наркозависимостью . Большой опыт работы в этом направлении накоплен в Екатеринбургской епархии в обществе «Трезвение» при Ново-Тихвинском женском монастыре города Екатеринбурга, в Николо-Угрешском и Новоспасском мужском ставропигиальном монастыре (Москва), на подворье Новоспасского монастыря в Калужской области. Во Введенском женском монастыре в городе Иваново ведется большая социальная работа по 15 направлениям: телефон доверия, антиалкогольные программы, проекты по борьбе с наркоманией (в сотрудничестве с 4 городскими наркологическими центрами), ВИЧ/СПИДом, выпуск листка трезвости «Выбираю жизнь».
Завершая рассмотрение проблемы, подчеркнем: автор не ставил перед собой задачи представить исчерпывающий анализ социального служения монастырей в историческом прошлом и на современном этапе. Представленные материалы свидетельствуют о том, что многие существовавшие в дореволюционной России направления и формы социального служения монастырей остаются актуальными и сегодня. Это подтверждается словами из современного церковного документа: «Монастыри могут оказывать духовную и материальную помощь больницам, детским домам и приютам, воинским частям и пенитенциарным учреждениям; организовывать православные негосударственные образовательные учреждения, приюты для сирот, библиотеки, издательства; оказывать содействие православным молодежным организациям… Монастырская благотворительность должна в первую очередь выражаться в заботе о паломниках и богомольцах… Во время народных бедствий монастыри обязаны приходить на помощь местному населению» [31].
В заключение сформулируем выводы.
Социальное служение православных монастырей - это важная часть социальной жизни России, значимый нравственный фактор в оказании помощи государству в решении социальных проблем общества.
Монастыри всегда были и должны оставаться не только носителями высокой духовности, книжности, образцами русского монументального искусства в храмовой архитектуре и мастерстве иконописания, но хранителями и воспитателями в народе традиций христианской культуры и бережного и внимательного отношения к духовно-нравственным ценностям России.
Монастыри на протяжении всей дореволюционной истории активно и многопланово занимались решением социальных проблем страны: участвовали в развитии экономики региона, оказывали материальную помощь нуждающимся, давали приют одиноким и бездомным, предоставляли возможность трудиться и зарабатывать на хлеб, оказывали пастырскую помощь сиротам, инвалидам, больным, престарелым и осужденным, поддерживали духовно-нравственное состояние в обществе, позитивно влияли на развитие литературы, книгоиздательского дела в России, подавали пример патриотического служения Отечеству в годы тяжелых испытаний народа.
Масштабы разрушений обителей, уничтожения кадров духовенства, которые вынесла РПЦ за годы советской власти, до настоящего времени не позволяют констатировать готовность монастырей заниматься практикой социального служения в былом масштабе. Трудности восстановления некоторых монастырей настолько значительны, что преодолеть их без помощи государства и частных благотворителей не представляется возможным. Для решения проблем необходимо дальнейшее совершенствование правоприменительной практики благотворения.
Фактическое состояние дел в социальной сфере страны характеризуется значительным количеством проблем, которыми РПЦ и государственные учреждения социальной сферы должны заниматься сообща. Для этого необходим опыт взаимодействия в прошлом: его изучение и си- стематизация, использование с учетом современных условий. Важно продолжать и оптимизировать совместную, партнерскую деятельность государства и РПЦ по различным социальным проектам, направленным на решение насущных социальных проблем российского общества.
Формируя социальную политику государства, парадигмы воспитания и образования подрастающего поколения, правовые основы благотворительной деятельности, среди прочих традиционных ценностей духовно-нравственной культуры российского народа следует учитывать милосердие, благотворительность, социальное служение.
Ссылки:
-
1. Феофан Затворник, свт. Начертание христианского православного учения. М., 2010. 686 с.
-
2. Патриарх Алексий II. Русь Державна. 1994. № 2. С. 6.
-
3. Steindorff L. Memoria in Altrußland. Untersuchungen zu den Formen christlicher Totensorge. Stuttgart, 1994. 234 S.
-
4. Беседа. 1872. Кн. XI. С. 61–62.
-
5. Нижегородские епархиальные ведомости. 1891. № 17.
-
6. ОР РГБ (Отд. рукоп. Рос. гос. б-ки). Ф. 213. К. 3. Д. 28. Л. 1.
-
7. ОР РГБ. Ф. 213. К. 3. Д. 18. Л. 3.
-
8. ОР РГБ. Ф. 213. К. 15. Д. 17. Л. 5.
-
9. Ponomarenko E. The architecture of the Orthodox monasteries of Southern Urals in the 17th century // Nauka i studia. 2015. Vol. 11. Р. 53–56.
-
10. Смолич И.К. Русское монашество: 988–1917. Жизнь и учение старцев. М., 1997. С. 30.
-
11. Лаушкин А.В., Аксючиц-Лаушкина В.В. Соловецкий монастырь и его ближайшие окрестности. М. ; Соловки, 2015. 272 с.
-
12. ОР РГБ. Ф. 213. К. 1. Д. 12. Л. 3.
-
13. Там же. Л. 6–7.
-
14. Там же. Л. 12.
-
15. Там же. Л. 68–69.
-
16. Филарет, митр. Московский и Коломенский. Сочинения. Ч. 1. М., 1844. С. 89.
-
17. ОР РГБ. Ф. 668. К. 1. Д. 27. Л. 77–78.
-
18. Васильева О.Ю. Судьбы русских монастырей в ХХ в. // Монашество и монастыри в России XI–ХХ века. Исторические очерки. М., 2005. С. 332–342.
-
19. ОР РГБ. Ф. 213. К. 3. Д. 13. Л. 30.
-
20. ОР РГБ. Ф. 213. К. 3. Д. 6. Л. 4.
-
21. Андреева Е.В. Социально-культурная деятельность монастырей Восточного Урала и ее общественное значение // Вестник Гуманитарного университета. 2013. № 3 (3). С. 125–135.
-
22. Федоров П.Ф. Соловки. Кронштадт, 1889. С. 30–31.
-
23. Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. Вып. IV. М., 1893. С. 14.
-
24. Лаушкин А.В., Аксючиц-Лаушкина В.В. Указ соч. С. 30.
-
25. ОР РГБ. Ф. 213. К. 2. Д. 1. Л. 18.
-
26. ОР РГБ. Ф. 213. К. 2. Д. 5. Л. 21.
-
27. Скоморох Олег, свящ. Пастырское служение в тюрьме в настоящее время [Электронный ресурс]. СПб., 1998. URL: http://otechnik.narod.ru/skomorcvp_1.htm (дата обращения: 16.10.2016).
-
28. Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. 1560–1880 гг. Историческое, законодательное, административное и бытовое положение заключенных, пересыльных, их детей и освобожденных из-под стражи со времени возникновения русской тюрьмы до наших дней. СПб., 1880. С. 398.
-
29. О принципах организации социальной работы в Русской православной церкви [Электронный ресурс] : док. принят 4 февр. 2011 г. Архиерейским собором РПЦ. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html (дата обращения: 01.10.2016).
-
30. Патриарх поблагодарил Путина за поддержку русского монашества на Афоне [Электронный ресурс]. 2016. 28 мая. URL: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201605282113-r91m.htm (дата обращения: 16.10.2016).
-
31. Проект «Положения о монастырях и монашествующих» [Электронный ресурс]. 2012. 30 мая. URL: http://www.patriar-chia.ru/db/text/2255384.html (дата обращения: 24.09.2016).
Список литературы Возрождение практики социальной деятельности монастырей: утраченный опыт в ретроспективе и современные тенденции
- Феофан Затворник, свт. Начертание христианского православного учения. М., 2010. 686 с.
- Патриарх Алексий II. Русь Державна. 1994. № 2. С. 6.
- Steindorff L. Memoria in Altrußland. Untersuchungen zu den Formen christlicher Totensorge. Stuttgart, 1994. 234 S.
- Беседа. 1872. Кн. XI. С. 61-62.
- Нижегородские епархиальные ведомости. 1891. № 17.
- ОР РГБ (Отд. рукоп. Рос. гос. б-ки). Ф. 213. К. 3. Д. 28. Л. 1.
- ОР РГБ. Ф. 213. К. 3. Д. 18. Л. 3.
- ОР РГБ. Ф. 213. К. 15. Д. 17. Л. 5.
- Ponomarenko E. The architecture of the Orthodox monasteries of Southern Urals in the 17th century//Nauka i studia. 2015. Vol. 11. Р. 53-56.
- Смолич И.К. Русское монашество: 988-1917. Жизнь и учение старцев. М., 1997. С. 30.
- Лаушкин А.В., Аксючиц-Лаушкина В.В. Соловецкий монастырь и его ближайшие окрестности. М.; Соловки, 2015. 272 с.
- ОР РГБ. Ф. 213. К. 1. Д. 12. Л. 3.
- Филарет, митр. Московский и Коломенский. Сочинения. Ч. 1. М., 1844. С. 89.
- ОР РГБ. Ф. 668. К. 1. Д. 27. Л. 77-78.
- Васильева О.Ю. Судьбы русских монастырей в ХХ в.//Монашество и монастыри в России XI-ХХ века. Исторические очерки. М., 2005. С. 332-342.
- ОР РГБ. Ф. 213. К. 3. Д. 13. Л. 30.
- ОР РГБ. Ф. 213. К. 3. Д. 6. Л. 4.
- Андреева Е.В. Социально-культурная деятельность монастырей Восточного Урала и ее общественное значение//Вестник Гуманитарного университета. 2013. № 3 (3). С. 125-135.
- Федоров П.Ф. Соловки. Кронштадт, 1889. С. 30-31.
- Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. Вып. IV. М., 1893. С. 14.
- Лаушкин А.В., Аксючиц-Лаушкина В.В. Указ соч. С. 30.
- ОР РГБ. Ф. 213. К. 2. Д. 1. Л. 18.
- ОР РГБ. Ф. 213. К. 2. Д. 5. Л. 21.
- Скоморох Олег, свящ. Пастырское служение в тюрьме в настоящее время . СПб., 1998. URL: http://otechnik.narod.ru/skomorcvp_1.htm (дата обращения: 16.10.2016).
- Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. 1560-1880 гг. Историческое, законодательное, административное и бытовое положение заключенных, пересыльных, их детей и освобожденных из-под стражи со времени возникновения русской тюрьмы до наших дней. СПб., 1880. С. 398.
- О принципах организации социальной работы в Русской православной церкви : док. принят 4 февр. 2011 г. Архиерейским собором РПЦ. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html (дата обращения: 01.10.2016).
- Патриарх поблагодарил Путина за поддержку русского монашества на Афоне . 2016. 28 мая. URL: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201605282113-r91m.htm (дата обращения: 16.10.2016).
- Проект «Положения о монастырях и монашествующих» . 2012. 30 мая. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2255384.html (дата обращения: 24.09.2016).