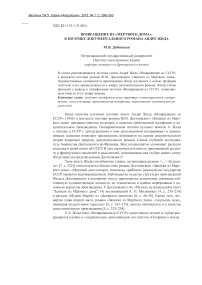Возвращение из «Мертвого дома»: к поэтике документального романа Андре Жида
Автор: Дубинская Маргарита Викторовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается поэтика книги Андрe Жида «Возвращение из СССР» в контексте поэтики романа Ф.М. Достоевского «Записки из Мертвого дома». Художественные особенности произведения Жида изучаются с целью проверки гипотезы о его принадлежности к жанру документального романа. Автор статьи приходит к выводу о полифонизме поэтики «Возвращения из СССР», позволяющем отнести его к жанру романа.
Сходство полифонических структур, композиционный контрапункт, голоса-позиции, тройственная полифония, переживание мистической реальности
Короткий адрес: https://sciup.org/146121631
IDR: 146121631 | УДК: 821.133.1-31(091)
Текст научной статьи Возвращение из «Мертвого дома»: к поэтике документального романа Андре Жида
Наша попытка изучения поэтики книги Андрé Жида «Возвращение из СССР» (1936) в контексте поэтики романа Ф.М. Достоевского «Записки из Мертвого дома» призвана ответить на вопрос о наличии тройственной полифонии в документальном произведении. Полифоническая поэтика путевых заметок А. Жида о поездке в СССР с прилегающими к ним дополнениями (поправками) и дневниковыми записями позволяет предполагать возникшую на основе документального очерка жанровую природу документального романа. Самый глубокий исследователь творчества Достоевского во Франции, Жид неоднократно упоминает русского классика в своей книге об СССР. В чем заключается близость произведений русского и французского писателей и мыслителей, позволяющая нам глубже понять книгу Жида через посредство романа Достоевского?
Тема книги Жида («необъятная страна, мучающаяся родами <…> будущего» [7, с. 522]) онтологически близка теме романа Достоевского «Записки из Мертвого дома»: «Мертвый дом» каторги, поскольку «ребёнок» (коммунизм) государства СССР окажется мертворожденным. Наблюдается сходство структуры произведений Жида и Достоевского: к основному тексту прилагаются дополнения, имеющие собственную художественную ценность, но тематически и идейно неразрывные с основным корпусом произведения. У Достоевского это «Рассказ, не вошедший в текст “Записок из Мёртвого дома”. Из воспоминаний А. П. Милюкова» [4, с. 233–234] и рассказ «Мужик Марей» из «Дневника писателя» [6, с. 46–50]. Кроме того, четвертая глава второй части романа «Записки из Мертвого дома» «Акулькин муж», имеющая подзаголовок «рассказ» [3, с. 165–173], иногда публикуется и в качестве самостоятельного произведения [5, с. 233–234].
У А. Жида текст «Возвращения из СССР» существенно полнее и глубже раскрывается идейно и содержательно дополняющим его текстом «Поправок к моему
“Возвращению из СССР”» (1937) [8, с. 563–618], по объёму в полтора раза превышающим текст «Возвращения из СССР». В совокупности они составляют единый корпус документального произведения, первую часть которого далее мы называем «Возвращение», а вторую – «Поправки». Отметим соответствие структуры основного текста книги Жида структуре основного текста романа Достоевского, который также состоит из двух частей. Отметим и соответствие функций первых частей книги Жида и романа Достоевского, как и соответствие функций вторых частей книги Жида и романа Достоевского. В том и другом случае первые части произведений имеют функцию предварительного знакомства с материалом, который более глубоко прорабатывается во вторых частях. К тексту «Возвращения из СССР» примыкают письма-отклики корреспондентов Жида на его книгу, в которых приводятся новые факты о социальных процессах в Советском Союзе, подтверждающие объективность нового взгляда Жида, характеризующегося критическим отношением к руководству СССР: «Под СССР я имею в виду тех, кто им руководит» [7, с. 521]. Примыкают к нему и дневниковые заметки первой половины 1930-х годов, когда отклики Жида на социальные процессы в СССР порой носили восторженный характер.
О композиции рассказа «Мужик Марей» Г.М. Фридлендер пишет: «По принципу музыкального контрапункта в нем соединены два эпизода из воспоминаний писателя. Первый – встреча с Мареем относится к августу 1831 г., когда Достоевскому было 9 лет, а второй <…> события второго дня “светлого праздника”, то есть Пасхи, произошли 9 апреля 1851 г.» [15, с. 344–345]. Но принцип контрапунктического соединения, композиционный контрапункт событий настоящего и прошлого лежит в основе всего повествования о пребывании Достоевского на каторге, в котором соединяются события настоящего и прошлого. А это соединение порождает жгучую мечту о будущем освобождении из «Мертвого дома». Поэтому главной особенностью поэтики художественного времени романа «Записки из Мертвого дома» становится полифонизм, возникающий на основе диалогов о событиях прошлого, настоящего и будущего. Будущее звучит в душе писателя и других каторжан на фоне как бы остановившегося времени внешней реальности каторжной жизни. Эта остановка объясняется, по М.М. Бахтину, «пороговой ситуацией» и «кризисным временем»: «На пороге и на площади возможно только кризисное время, в котором миг приравнивается к годам, к десятилетиям [выделено автором. – М. Д.]» [1, с. 292].
Внутренний диалог, разговор ребенка Феди Достоевского с Мареем в прошлом, занявший в сознании взрослого Достоевского-писателя несколько мгновений, оказывается равным двум десятилетиям, отделившим детство от каторги. В эти мгновения опыт двадцати лет жизни перешел в новое качество, оказав одухотворяющее влияние на отношение взрослого Достоевского к арестантам в настоящем художественного времени. Место злобы к «разбойникам» в сердце писателя занимает сострадание к «несчастным». Парадокс порогового времени каторги заключается в том, что арестант зачастую более ярко проживает прошлое и будущее, отмеченные качеством свободы, чем настоящее каторжной жизни. Отсюда ряд ярких психологических зарисовок событий, приведших на каторгу того или иного персонажа «Мертвого дома» – от честного офицера Акима Акимыча, расстрелявшего «мирного князька» за нападение на крепость, до мужика, жену которого обесчестил сладострастный барин, поплатившийся жизнью за свое распутство.
Дневниковые записи А. Жида первой половины 1930-х годов соединяются с «Возвращением» и «Поправками» на основе того же принципа контрапункта. Точ- ка зрения Жида на СССР в этих записях прямо противоположна его точке зрения «Возвращения» и «Поправок». Причиной изменения точки зрения становится полученный непосредственно личный опыт. Положительный опыт общения с обычными людьми в СССР и отрицательный опыт общения с «ответственными работниками»: «Они все лгут, – говорил мне в Тифлисе Х. о советских руководителях. – Они утратили всякое представление о реальности» [8, с. 601]. Также и в основе изменения отношения Достоевского к озлобившим его арестантам во время второго дня Пасхи был его положительный личный опыт общения с крестьянами в детстве. Именно в каторге взгляды Достоевского на народ получили новую форму и содержание: «Сам автор в “Записках” отмечал, что за годы каторги пересмотрел многие из прежних своих убеждений» [13, с. 279].
«Контрапункту» художественного времени романа Достоевского соответствует «контрапункт» художественного времени книги Жида. Настоящее время жизни героев Жида подобно настоящему времени каторжной жизни героев Достоевского. Их бытие отмечено тем же знаком пороговой ситуации и кризисного времени. Бедствуя в настоящем, они живут футуристической надеждой на будущее воплощение мечты о свободном и материально обеспеченном бытии. Жид приводит пример разговора на эту тему рабочего с ответственным работником. Рабочий спрашивает: «Скажите, когда придет время, что мы будем работать по силам и есть досыта? – И что сказал “ответственный работник”? – спросил я у Х. – Он ему прочитал лекцию» [8, с. 608]. Если большинство героев Достоевского знают год своего выхода на свободу, кроме так называемых «вечных», то герои Жида в ответ на свой запрос о счастливом будущем не имеют конкретного ответа, поскольку их «вожди», как сказано, утратили всякое представление о реальности.
Что касается событий прошлой жизни, то на каторге было не принято их обсуждать, тем не менее, личная история почти каждого арестанта была всем известна. Прошлое время вместе с его именами и событиями в СССР тоже под запретом. Прошлое вспоминают в обстановке неофициального общения, вопреки господствующему принципу государственного монологизма, государственной монополии на правильный взгляд в отношении всех событий бывшего, существующего и будущего: «Для руководителей было бы удобнее, если бы все в государстве думали одинаково» [7, с. 548]; «Иные имена, в частности имя Есенина <…> ещё произносятся, но шепотом» [8, с. 604]. В обстановке государственной монополии СССР на правду Жид жаждет диалога, полифонии идей: «Я думаю, что это большая мудрость – прислушиваться к противнику; даже заботиться о нем по необходимости, не позволяя ему вредить, – бороться с ним, но не уничтожать» [7, с. 548].
Государственный монологизм существовал и в России xIx столетия. Например, цензурный комитет мешал свободному высказыванию различных точек зрения на положение дел в государстве. Не совсем простым был и путь романа о «Мертвом доме» к читателю. Тем не менее, сталинский режим абсолютно исключал публикацию подобного произведения о «каторге» советского периода: «Архипелаг ГУЛАГ» мог появиться только в эпоху социальной оттепели – в период начального этапа разрушения государственного монологизма СССР, а вслед за ним и самого СССР. Вот как Жид описывает отдых советских граждан в парке культуры: «Здесь затеваются игры, чуть дальше – танцы. Обычно всем руководят затейник или затейница, и везде порядок. Но зрителей всегда гораздо больше, чем танцующих» [7, с. 525]. Картина весьма приятная, особенно по сравнению со вторым днем Пасхи в казарме омской каторги. Но вот что поражает: если безобразный «отдых» катор- жан наступает после чинного праздника с посещением церкви в первый день Пасхи, а участие в нем принимают все, то большинство советских людей лишь наблюдают за теми, кто веселится. Веселье каторжан во второй день Пасхи безобразно, однако во время рождественского праздника их участие в подготовке и проведении театрального действа производит нравственное очищение: «Только немного позволили этим бедным людям пожить по-своему, повеселиться по-людски, прожить хоть час не по-острожному – и человек нравственно меняется, хотя бы то было на несколько только минут» [3, с. 130]. Монологизм царской России все же оставляет место полифонизму народных гуляний и представлений даже в условиях каторги, но: «Гипертекст Достоевского – это повествование об усыхании родовых корней» [12, с. 52]. А государственный монологизм СССР 1930-х годов означает углубление процесса усыхания корней: «Они забыли, что такое корни» [8, с. 601, сн. 1]; «Это совершенная форма варварского нашествия» [8, с. 612]; этот монологизм даже претендует на замещение функции господа бога: «Сталин у них – бог», – резюмирует доктор А. Денье, работавший в СССР, в письме Жиду [8, с. 614].
Внешним выражением полифонизма романа Достоевского о «Мертвом доме» и книги Жида об СССР является диалогическая перекличка многих документальных источников этих произведений и диалогическая перекличка самих произведений Достоевского и Жида. В основе романа Достоевского лежат его записи, так называемая Сибирская тетрадь, которую «Достоевский начал вести в годы пребывания в омской каторге» [16, с. 310]. Тетрадь содержит биографические заметки, тюремный и крестьянский фольклор середины xIx века, включающий в свой состав сотни микродиалогов. Характер документальности «Возвращению» Жида придает использование путевых заметок и дневниковых записей, а также множество ссылок на советские газеты и другие документы. Французскому писателю в СССР «позволяли знакомиться с документами, которые обычно предпочитают не показывать» [8, с. 565]. Кроме того, Жид взял себе за правило «ссылаться только на то, что видел или слышал сам» [8, с. 566].
Что касается судьбы полифонического творчества Достоевского в Советском Союзе описываемой эпохи, то там «у Достоевского читателей больше нет, причем нельзя с уверенностью сказать, сама ли молодежь от него отвернулась или её от него отторгли – так обработаны мозги» [7, с. 551–552]. Уточним, что тенденция уменьшения читательского интереса к Достоевскому существовала уже на рубеже xIx–xx веков, в предреволюционную эпоху: «В конце xIx века по статистическим данным земских библиотек самым читаемым писателем в России оказался Евгений Андреевич Салиас» [2, с. 41–42]. Например, по данным библиотеки им. А.С. Пушкина в Москве, на книги Достоевского за год поступило 36 запросов, а на книги Са-лиаса – 113 запросов. Позади Салиаса, но далеко впереди Ф.М. Достоевского были Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев [2, с. 42].
Если текст «Возращения» оставляет впечатление черновика (конспекта), то текст «Поправок» становится окончательным вариантом документального романа, максимально насыщенного статистическими данными: «Из двух миллионов школьных тетрадей, выпущенным заводом “Герой труда”, 99 процентов бракованных, их нельзя использовать (“Известия”. 4 ноября 1936 г.)» [8, с. 568]; «Известный в СССР хирург профессор Бурденко особенно жалуется на низкое качество инструментов для тонких операций. Сшивные иглы, например, во время операции гнутся или ломаются (“Правда”. 15 ноября 1936 г.)» [8, с. 568–569]; «Бюрократия, значительно усилившаяся к концу нэпа, вмешивается в дела колхозов и совхозов. “Правда” от 16
сентября 1936 г. на основании работы комиссии констатирует, что более 14 процентов рабочих и служащих МТС – не нужны» [8, с. 583].
За публикациями стоят голоса-позиции конкретных людей. Они носят критический характер, что может показаться признаком объективно-полифонического обсуждения проблем. Однако критике подвергаются лишь те, кто недостаточно точно следует «линии», выработанной государством, но не сама «линия»: «Сталин признает только всеобщее одобрение» [8, с. 593]. Государственный монологизм прикрывается внешними формами свободы слова. Жид показывает ложный полифонизм на примере обсуждения проекта закона, запрещающего аборты: «По поводу закона о запрете в СССР абортов громадное большинство высказалось (правда, более или менее открыто) против этого закона. С общественным мнением не посчитались, и, к всеобщему изумлению, закон прошел. В газетах печатались, само собой разумеется, только одобрительные высказывания. В частных беседах, которые у меня были со многими рабочими, я слышал смиренные упреки, робкие жалобы» [7, с. 542]. Смиренные упреки и робкие жалобы рабочих – это едва слышные проявления громко звучавшего полифонизма народной молвы прежних эпох. Той молвы, которая колебала царские троны во время восстаний и которая собирала народные ополчения во время нашествия врага, угрожавшего целостности государства.
Редукция полифонического начала, наблюдаемая Жидом в диалогах его персонажей, продуцирует полифонизм текста его книги об СССР 1930-х годов. Иные мнения, чем официальная точка зрения, французский писатель находит повсюду, где кто-нибудь решается заговорить с ним. Вот эпизод знакомства в поезде с изможденным молодым мужчиной, ехавшим с женой и ребенком. Этот мужчина долго молчал, пока решился высказаться. Его неоднократно увольняли с работы как неблагонадежного, не предъявляя конкретных обвинений. После чего он «принял решение ехать в Москву и все узнать, оправдать себя, если возможно, или уже совсем себя погубить – протестовать против непонятных, ничем не вызванных подозрений» [8, c. 607]. Перед нами диалогическая перекличка с эпизодом из романа Достоевского «Бедные люди» о мелком чиновнике Горшкове, исключенном из департамента по ложному обвинению и приехавшему в Петербург искать правды и восстановления доброго имени. Горшков свою репутацию восстановил, но что стало с советским рабочим, искавшим справедливости в Москве, неизвестно.
«Голоса-позиции» книги Жида отражают разные точки зрения «большого диалога» (М.М. Бахтин) [1, с. 309–460], но все они сводимы к трем голосам-позициям. Этот «триалог» (В.В. Иванов) возникает в ситуации нравственного выбора [11, c. 134–205], и в романе Жида он включает в себя голос-позицию государства, голос-позицию человека из народа, голос-позицию автора. Внутри всех трех голосов-позиций существуют диалогические оппозиции. Голос-позиция государства озвучивается человеком в ситуации любого официального общения. Однако в частной и доверительной беседе люди могут высказывать противоположные точки зрения. Голос-позиция человека из народа раздваивается: если молодежь, как правило, искренне приняла позицию официального монологизма, то люди других поколений склонны к полифонии. Вот что сообщает Жиду доктор Денье о советских ученых: «Мои друзья, свободно мыслящие люди, вынуждены раздваиваться: один человек – это тот, которого мы видим, который говорит, проявляет себя внешним образом; другой – ушедший в себя» [8, c. 610]. Голос-позиция автора ещё недавно, в первой половине 1930-х годов, разделявший официальную точку зрения СССР, в «Возвращении» начинает отдаляться от неё: «Важно не обольщаться и признать без обиняков: это вовсе не то, чего хотели» [7, c. 548]. В «Поправках» Жид окончательно примыкает к той народной точке зрения, которая была ближе всего объективному взгляду на положение дел в СССР: «Важно видеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими их хотелось бы видеть. Советский Союз не оправдал наших надежд, не выполнил своих обещаний, хотя и продолжает навязывать нам иллюзии» [8, c. 595].
Перемещение голоса-позиции Жида от монологизма голоса-позиции государства к полифонизму голоса-позиции народа происходит в соответствии с закономерностью «градаций голоса-позиции – начальной, переходной и заключительной» (термин В.В. Иванова) в творчестве Достоевского. В «Записках из Мертвого дома» Достоевский задается вопросом, в котором сталкиваются голоса-позиции господа Бога и его оппонента. Этот вопрос скрыт в утверждении: «Не люблю я их, они душегубы, я молиться хочу, а они похабные песни поют» [3, c. 252]. В сущности, это вопрос о возможности встать на позицию Бога в обстановке внешнего торжества позиции оппонента Бога. Ответ на него Достоевский дает в рассказе «Мужик Марей», где ясно видны градации перехода от позиции оппонента Бога к позиции Бога. Тяжелая атмосфера в каторжной казарме во время второго дня праздника Пасхи довела Достоевского до состояния, приблизившего его к голосу-позиции оппонента Бога: «Наконец в сердце моем загорелась злоба» [6, c. 421].
Желая избежать общения с окружающими, чтобы достичь молитвенного состояния, Достоевский погружается в воспоминания детства. Девятилетним мальчиком он идет за деревенскую околицу, чтобы выломать ореховый хлыст и стегать им лягушек (намерение стегать лягушек сближает его позицию с позицией оппонента Бога). Невдалеке от зарослей орешника пашет крепостной мужик его отца Марей. «Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: “Волк бежит!” Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика [начальная градация перехода от позиции оппонента к позиции Бога. – М.Д.] <…> – Ну, полно же, Христос с тобой, окстись. – Но я не крестился [6, c. 423] <…> Я понял наконец, что волка нет и что мне крик “Волк бежит” – померещился <…> [звучит имя Христа: следующая градация перехода к позиции Бога. – М. Д.] – Ну и ступай, а я те вослед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! – прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь, – ну, Христос с тобой, ну ступай [следующая переходная градация. – М. Д.] <…> и вдруг откуда ни возьмись, бросилась ко мне наша дворовая собака Волчок. С Волчком-то я уж вполне ободрился и обернулся последний раз к Марею» [6, c. 424]. Встреча мальчика с собакой Волчком (интересно это превращение «волка» в Волчка) является заключительной градацией – согласование позиции героя с голосом-позицией Бога завершено: «Встреча была уединенная, в пустом поле, и только бог, может, видел сверху» [6, c. 425].
Те градации голоса-позиции, которые произошли в душе девятилетнего Феди и припомнились Федору Михайловичу на каторге, позволили душе взрослого человека почти мгновенно отказаться от позиции оппонента Бога и перейти к позиции Бога: «Помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем» [6, c. 425]. Мы полагаем, что произошедшее с Достоевским духовное преображение (как пишет сам Достоевский, «чудо») в основе своей имеет явление, называемое Павлом Флоренским переживанием мистической реальности: «Память есть <…> создание во Времени символов Вечности. <…> Но можно снова коснуться над Временем стоящей и раз уже пережитой мистической реальности, лежавшей в основе одного представления, ныне утекшего, и имеющего лечь в основу другого, наступающего и родственного первому по единству мистического содержания» [14, c. 206–207].
Итак, если тройственная полифония Достоевского основывается на «встрече» голосов-позиций человека, оппонента Бога и Бога в ситуации нравственного выбора, то поэтическим аналогом в книге Жида становится тройственная полифония, которая, в той же ситуации нравственного выбора, основана на «встрече» голосов-позиций автора, советского государства и народа (глас народный – глас Божий). Поэтому мы склонны полагать, что книга Жида имеет жанровую природу документального романа, возникшего на основе очеркового жанра. Нет свидетельств, что А. Жид в работе над книгой об СССР намеренно следовал поэтике романа Ф.М. Достоевского о «Мертвом доме». Однако маловероятно, чтобы такой знаток творчества Достоевского, каким был Жид, не обращался к поэтическому опыту русского классика помимо осознаваемых намерений. Вот нравственный вывод книги Жида: «Благодаря Достоевскому такое же братское чувство [как и к Достоевскому. – М.Д.] я испытываю ко всему русскому народу» [8, с. 592, сн. 1].
THE RETURN FROM «DEAD HOUSE»:
Список литературы Возвращение из «Мертвого дома»: к поэтике документального романа Андре Жида
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Худож. лит., 1972. 470 с.
- Васильева С.А. Библиотека и читатель на рубеже xIx-xx вв.//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 3. С. 38-43.
- Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. Т. 4: Роман «Записки из мертвого дома». 1972. 324 с.
- Достоевский Ф.М. Рассказ, не вошедший в текст «Записок из Мертвого дома». Из воспоминаний А.П. Милюкова//Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. Т. 4: Роман «Записки из Мертвого дома». 1972. С. 233-234.
- Достоевский Ф.М. Акулькин муж. Рассказ//Достоевский Ф.М. Рассказы. Петрозаводск: Карелия, 1985. С. 394-403.
- Достоевский Ф.М. Мужик Марей//Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. Т. 22: Дневник писателя за 1876 год. Январь-апрель. 1981. С. 46-50.
- Жид А. Возвращение из СССР (1936)/Пер. А. Лапченко//Жид А. Подземелья Ватикана. Фальшивомонетчики. Возвращение из СССР. М.: Моск. рабочий, 1990. С. 520-562.
- Жид А. Поправки к моему «Возвращению из СССР» (1937)/Пер. А. Лапченко//Жид А. Подземелья Ватикана. Фальшивомонетчики. Возвращение из СССР. М.: Московский рабочий, 1990. С. 563-618.
- Жид А. Страницы из «Дневника». Заметки (1933)/Пер. Н. Любимова//Жид А. Подземелья Ватикана. Фальшивомонетчики. Возвращение из СССР. М.: Московский рабочий, 1990. С. 619-624.
- Жид А. Из «Дневника» (1931)/Пер. И. Габинского и др.//Жид А. Подземелья Ватикана. Фальшивомонетчики. Возвращение из СССР. М.: Московский рабочий, 1990. С. 624-636.
- Иванов В.В. Сакральный Достоевский: монография. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. 520 с.
- Иванов В.В. «Картина русского миража», или Проблема рода в творчестве Ф.М. Достоевского//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 3. С. 51-59.
- Федоренко Б.В., Якубович И.Д. Записки из Мертвого дома -примечания. Раздел 2//Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. Т. 4: Роман «Записки из Мертвого дома». 1972. С. 279-288.
- Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. М.: Акад. проект: Гаудеамус, 2012. 905 с.
- Фридлендер Г.М. Комментарий к рассказу «Мужик Марей»//Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. Т. 22: Дневник писателя за 1876 год. Январь-апрель. 1981. С. 344-346.
- Юдина И.М., Власова Э.И. Сибирская тетрадь -примечания//Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. Т. 4: Роман «Записки из Мертвого дома». 1972. С. 310-322.