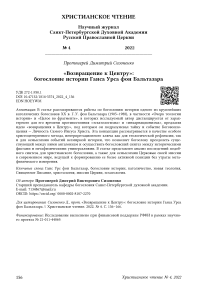"Возвращение к центру": богословие истории Ганса Урса фон Бальтазара
Автор: Сизоненко Дмитрий Викторович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Богословие истории
Статья в выпуске: 4 (103), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются работы по богословию истории одного из крупнейших католических богословов ХХ в. Г. У. фон Бальтазара (1905-1988), в частности «Очерк теологии истории» и «Целое во фрагменте», в которых исследуемый автор дистанцируется от характерного для его времени противостояния «эсхатологизма» и «инкарнационизма», предлагая идею «возвращения к Центру», под которым он подразумевал тайну и событие Боговоплощения - Личность Самого Иисуса Христа. Эта концепция рассматривается в качестве особого христоцентричного метода, интерпретационного ключа как для теологической рефлексии, так и для осмысления событий всемирной истории, что позволяет богослову преодолеть существующий между ними антагонизм и осуществить богословский синтез между историческими фактами и метафизическими универсалиями. В статье представлен анализ последствий подобного синтеза для христианского богословия, а также для осмысления Церковью своей миссии в современном мире, ведущей к формированию ее более активной позиции без утраты метафизического измерения.
Ганс урс фон бальтазар, богословие истории, католичество, новая теология, священное писание, христология, миссия церкви, эсхатология
Короткий адрес: https://sciup.org/140296129
IDR: 140296129 | УДК: 272-1:930.1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_4_156
Текст научной статьи "Возвращение к центру": богословие истории Ганса Урса фон Бальтазара
Funding : The reported study was funded by RFBR, project number 21-011-44069.
Для западной богословской мысли XX в. стал в значительной степени веком богословия истории (см.: [Pasquale, 2011, 29]). В 1935–1950 гг. многие выдающиеся христианские мыслители приняли участие в полемике по вопросу о конечном предназначении человека и смысле истории. В общем потоке публикаций на эту тему стоят особняком две книги Г. У. фон Бальтазара: «Теология истории: очерк» [Balthasar, 1959; Бальтазар, 2006] и «Целое во фрагменте: некоторые аспекты теологии истории» [Balthasar, 1963; Бальтазар, 2001]. На уникальность его богословского метода в этом контексте обращал внимание другой католический мыслитель того времени И. Конгар, который писал: «Доктор Урс фон Бальтазар только что внес в нее [теологию истории] примечательный вклад. При этом он максимально абстрагировался от любой возможной философской постановки проблемы: настолько, что под названием „теология истории“ не упоминаются ни философия времени, ни теология земных реалий и человеческих усилий… ничего о космическом аспекте мироздания, почти ничего об эсхатологической перспективе…» [Congar, 1950, 655].
В самом деле, Бальтазар постарался дистанцироваться от противостояния между «эсхатологизмом» и «инкарнационизмом», определявшего тогда основную линию напряжения в католической теологии истории [Сизоненко, 2022]. Считая оба этих направления посягательством на сферу христианской философии или собственно философии, он всецело обращался к духовному измерению истории: в его произведениях основной вопрос богословия истории рассматривался сквозь призму «возвращения к центру». Этим центром, конституирующим «сердце» всякого подлинного богословия истории, для Бальтазара была тайна Слова Воплощенного. Исходя прежде всего и именно из этого «центра», мысль нашего автора обращалась к тайне окончательного предназначения и свершения человека, к роли Церкви в домостроительстве спасения, к судьбам человечества в целом.
Очерк теологии истории
Как указывает немецкое заглавие работы Бальтазара «Теология истории» (ср. нем. «Theologie der Geschichte: ein Grundriss»), вниманию читателя предлагался лишь предварительный набросок или общая схема, а не богословский синтез христианского понимания истории, который включал бы в себя трактаты о сотворении мира, искуплении человечества и т. д. Свою задачу автор видел в том, чтобы привести читателя к «сердцу» богословия истории — к Личности Иисуса Христа как ее «нормативному центру». Он писал: «Историческая жизнь Логоса (к коей принадлежит также Его смерть, воскресение и вознесение) представляет собой собственно мир идей, который, непосредственно или посредством редукции, нормирует всю историю, воздействуя на нее не с некой внеисторической высоты, но изнутри живого средоточия самой истории. Будучи рассмотренной с высшей и завершающей точки зрения, эта жизнь есть источник историчности как таковой, из которого исходит вся история — и до, и после Христа — и в котором она имеет свое средоточие» [Бальтазар, 2006, 22–23]. По сути, автор попытался применить к области исторического знания христологический подход к проблеме универсалий, задавая вопрос: каким образом Иисус Христос, Чье существование было ограниченным во времени и пространстве, обретает масштаб сверхиндивидуального события, становясь тем самым уникальным центром, который и определяет конечный смысл всякого человеческого существования и всемирной истории.
Размышления о тайне Воплощения в «Теологии истории» разворачиваются в четырех направлениях:
-
1) Рассмотрение абсолютной уникальности Личности и земной жизни Иисуса Христа, в Котором даровано откровение внутренней тайны Бога-Троицы и явлен миру совершенный образ человеческого существования как такового.
-
2) Размышление о Воплощении как уникальном событии и «полноте времени», которое вошло во всеобщую историю мира, включая историю спасения как исполнение
Божьего обетования. При этом история в целом и история спасения в частности представлены как «условие» исторического существования Иисуса.
-
3) Рассуждения о том, каким образом всеобщая история, включая историю спасения, интегрирована в уникальное и центральное событие Воплощения. На этом этапе историческое существование Иисуса рассматривается как «условие» истории в целом и истории спасения в частности.
-
4) Идея Христа как «нормы истории» — в силу Его исторического существования. Исходя из этого Бальтазар попытался ответить на два вопроса. Во-первых: каким образом жизнь Иисуса Христа в самом деле становится «нормой» всякого человеческого существования и всей истории? Во-вторых: какой смысл обретают человеческая жизнь и история мира, а также христианское жительство и Церковь, если их рассматривать в «нормативном» свете уникального «события Христа»?
В начале книги автор ставит вопрос, как соотносится темпоральность Иисуса Христа с темпоральностью всеобщей истории. Его интересует, что является тем «нормативным центром», исходя из которого богослов «глазами веры» мог бы интерпретировать всеобщую историю мира, включая историю спасения.
Прежде всего Бальтазар обращается к вопросу «исторической интерпретации». Он показывает, как философская мысль Запада по самой своей природе и основополагающей ориентации ставила непреодолимые пределы проблеме исторической интерпретации, разделяя постигаемую реальность на фактическую данность (индивидуальное, разумное, конкретное, случайное) и сущностные законы (всеобщие и необходимые). В результате возникли два направления: рационализм, отдающий предпочтение сущностям в ущерб фактическому и историческому, а также эмпиризм, отдающий предпочтение конкретному. При этом, как считает Бальтазар, сочетать в едином синтезе исторические факты и универсальные законы не получается, поскольку недостает подлинного интерпретационного ключа. Впрочем, наш автор признает важность того, что древнегреческая философия направляла мысль человека к идее сверхъестественного спасения, которое выходило за горизонты земного бытия. Таким образом, эта философия была подлинным praepartio evangelica . Однако до тех пор, пока мыслитель остается в философской перспективе (человек и мир), он неизбежно будет приходить к оппозиции между «вопросом о Боге» и «вопросом о человеке»: «Тому, кто берется интерпретировать историческое в его всеобщности, приходится — если он хочет избежать впадения в гностическую мифологию — предположить наличие действующего в истории и раскрывающего самого себя всеобщего субъекта, который одновременно является общезначимой нормополагающей сущностью. Таковым может быть либо сам Бог (который, однако, не нуждается в истории для самоопосредования), либо человек (т. е. свободно-деятельный субъект, тот или иной индивид; но последний не может, разумеется, управлять историей в целом)» [Бальтазар 2006, 11].
Ценность философии в вопросе исторической интерпретации Бальтазар видит в том, что философская мысль позволяет рационально обосновать единство всех людей, истинную «общность судьбы» человечества, однако при этом она не в состоянии предложить подлинно всеобщий «путь искупления». В книге «Целое во фрагменте» наш автор подробно рассмотрел различные пути искупления, по которым человечество пыталось прийти к Богу или к спасению. Вместе с тем он показал, что Кант коснулся окончательного предела, до которого способна дойти философская мысль: его различие между «чувственным» и «сверхчувственным» указывает на существование «зияющего разлома» внутри человека и, возможно, «радикального зла», «вины» как предосудительного отказа от спасения [Бальтазар, 2001, 86].
Философия, по мысли Бальтазара, достигает непреодолимого предела там, где, исходя из диалектической взаимосвязи между уникальностью личности и универсальностью человеческой природы, приходит к таинственной концепции общности судьбы всех людей. Эта судьба оказывается трагической, при этом ее негативный аспект (общность во грехе) может быть постигнут философской рефлексией, но позитивный аспект (путь всеобщего искупления), как кажется, остается величайшей загадкой для человеческого духа и непосредственно связан с поисками конечного смысла истории.
На следующем этапе наш автор показывает, что этот непреодолимой предел, поставленный философией, может быть преодолен в реальном соединении Божественного и человеческого в уникальной Личности Иисуса Христа. Таким образом, событие Воплощения предстает перед читателем как подлинное решение проблемы «универсалий» в области исторического знания. Бальтазар прибегает к понятию universale concretum , заимствованному у Николая Кузанского [Бальтазар, 2006, 82], которое позволяет ему показать, что событие Воплощения представляет собой тот уникальный центр , из которого проистекает конечный смысл исторического пути человечества. В силу того, что Иисус Христос одновременно истинный человек (т. е. принадлежит к исторической сфере человеческого существования) и истинный Бог (т. е. принадлежит к вечности Бога), Он предстает как «единый закон», поставленный в центр истории, исходя из которого можно толковать существование человека и историю. В подтверждение уникальности Христа наш автор приводит три свидетельства Писаний:
-
1) Событие Воплощения представляет конкретного человека в достоинстве Единородного (μονογενὴς) Сына Божьего.
-
2) Воплощение (ἐνσάρκωσις) представляет реальное умаление Бога , который в человеке Иисусе стал человеком и принял на Себя удел человечества, в кенозисе (κένωσις) Воплощения и жертвенной смерти вочеловечение (ἐνανθρώπησις) Бога дошло до предельной степени уничижения.
-
3) Признание реальной общности (идентичности природы и судьбы) между Иисусом из Назарета и остальными людьми.
Итак, Бальтазар помещает тайну Воплощения как тайну «ипостасного соединения» в центр христианской теологии истории. В отличие от «сотериологической» концепции Карла Барта, утверждавшего, что Христос вочеловечился ради людей, наш автор подчеркивает онтологическое измерение этой тайны: Христос, вочеловечился вместе с людьми. Но в то же время он напоминает, что основа этой идентичности природы и судьбы кроется в том, что в человеческую природу снизошел Сам Бог.
Поскольку Иисус Христос является истинным Богом, Его человечество может рассматриваться как instrumentum conjunctum спасения человеческой природы в целом [Бальтазар, 2006, 16]. В этой же реалистической концепции Воплощения как снисхождения Бога и возвышения человеческой природы в Боге швейцарский богослов видит решение проблемы, которую он поставил в начале своего очерка: каково соотношение исторического конкретного и всеобщего абстрактного закона. Христос может рассматриваться как решение этой проблемы, как «подлинный синтез», осуществленный Богом, поскольку Он действительно является одним из нас (человеческая природа), поскольку Он действительно един с Богом (Божественная природа), поскольку Он действительно является исторической личностью (индивидуальность).
Тайна Откровения в интерпретации Бальтазара состоит в том, что абсолютное единство Бога принимает на себя относительное единство человеческой личности. Таков единственный путь, который Бог предлагает в лице Иисуса Христа — Богочеловеческий путь к окончательному свершению. Этот путь поистине является тео-логи-ческим , его невозможно ассимилировать к философским «нормам» мира.
Представив тайну ипостасного соединения как решение вопроса об интерпретации истории, наш автор затем показывает импликации этого исключительно теологического пути . В силу ипостасного соединения в Иисусе Христе, в его человеческом существовании в целом нет ничего, что не служило бы откровению Бога и откровению сотворенного мира. Отныне «вопрос о Боге» и «вопрос о человеке» оказываются неразрывно взаимосвязанными.
Бальтазар приглашает созерцать историческое существование Иисуса Христа для того, чтобы читатель увидел Его отношения с Отцом и Его отношения с миром. Поскольку Бог открывает Себя в истории, богословие призвано обращаться прежде всего к историческому измерению человеческого существования. По мысли нашего автора, подлинное богословие всегда является экзистенциальным в силу того, что оно всегда начинается с созерцания исторического существования Иисуса Христа. Ибо Христос — это «конкретная личная и историческая идея, universale concretum et personale» [Бальтазар, 2006, 42].
Обращаясь к проблеме соотношения христианства («христианского факта») и всеобщей истории, Бальтазар настаивал на христоцентрическом измерении последней и стремился показать, что всеобщая история, включая историю спасения, была условием исторического существования Иисуса Христа как исполнения обетования. При этом оно, историческое существование Иисуса Христа, по мысли нашего автора, является условием всеобщей истории, поскольку Он является «нормой», уникальным законом или «живым синтезом», который Бог предложил человечеству для достижения конечной цели. Бог поместил Сына в самое «сердце» истории, а это указывает на ограниченный характер любой философской абстракции и призывает избрать тео-логический путь созерцания конкретного, которое является Единым на потребу (Лк 10,42).
Целое во фрагменте
Заглавие второй книги указывает на то, в чем состоит оригинальность подхода Бальтазара к богословию истории. Отдельного внимания заслуживают варианты его перевода на другие языки. В русском издании «Целое во фрагменте» является дословным переводом немецкого «Das Ganze im Fragment» и максимально точно передает содержание книги. «Фрагментом» автор называет человеческое существование во времени, «Целым» — вечную тайну Бога, всеобъемлющую и единую. Однако каким образом эти две реальности соотносятся между собой? Швейцарский богослов исходит из того, что человеческое существование является фрагментарным по самой своей сути, подобным «фрагменту музыкальной фразы» или «осколку керамики». Суть существования от человека всегда ускользает, вопрос о смысле неотступно преследует человеческий разум подобно тому, как осколок вызывает в воображении образ неразбитого сосуда. Вот почему и философы, и богословы всегда задавались вопросом: в каком направлении следует смотреть, чтобы во фрагментарном аспекте человеческого существования обнаружить указание на целое [Бальтазар, 2001, 10].
Название французского издания — «De l’Intégration» [Balthasar, 1970] — в большей степени указывает на метод Бальтазара. Под влиянием библейской концепции времени, и особенно с возникновением «секуляризованной» философии истории Вольтера и Д. Вико, вопрос о смысле истории стал ставиться прежде всего в терминах эволюции и прогресса. Наш автор отмечает: «Лишь в качестве библейской истории спасения история человечества обретает «направление течения» и прочитываемый во времени «смысл» («Sinn» — др.-верхн.-нем. Sinnan — «путешествовать, идти»; др.-герм. *sinqa — «путешествие»; лат. sentire — «взять след»; cp. im Sinn des Uhrzeigers — «в направлении часовой стрелки»; фр. sens как «смысл» и «направление», sens unuque, sentier )» [Бальтазар, 2001, 132].
Для современного богослова «восстановление» смысла истории, таким образом, состоит в установлении логической последовательности, непрерывности и, прежде всего, в том, чтобы различить линию прогресса в событиях человеческого существования, в смене эпох и цивилизаций. В перспективе христианской теологии истории речь идет о «прогрессе», ведущем к Царствию Божьему. Метод интеграции в книге представлен как противоположность философскому «эволюционизму», речь идет об интеграции всемирной истории в центральную тайну Иисуса Христа, уникальную точку пересечения времени и вечности. Бальтазар заимствует этот метод у блж. Августина, который излагал его в последних главах своей «Исповеди»: в Иисусе Христе distentio нашего временного и фрагментарного существования преодолевается и собирается воедино в intentio абсолютной Любви. Таким образом, смысл человеческого существования находится не в конце истории (эволюционная перспектива), а в самом ее центре (интеграционная перспектива — возвращение к центру).
На английском языке разбираемая нами книга вышла в двух переводах: «A Theological Anthropology» [Balthasar, 2010] и «Man in History: a Theological Study» [Balthasar, 1968]. В этих заглавиях выделены два важных аспекта. Во-первых, богословие истории Бальтазара всецело сосредоточено на вопросе о конечном смысле и завершении человеческого существования (в определенной степени оно и в самом деле представляет собой теологическую антропологию); во-вторых, обращаясь к этому вопросу, наш автор предлагает исключительно тео-логический подход : «Тема нашей книги — теология истории. Какие ответственные высказывания, с опорой на библейское Откровение, можно сделать в этой области, чтобы скрытым образом не переступить ее границы с философией истории?» [Бальтазар, 2001, 8]. Избрав тео-логический подход, швейцарский богослов не пренебрегает философией истории. Для него человек как «природа» и как историческое существо представляет собой то таинственное явление, для которого всегда актуальным остается вопрос о самопонимании. Настойчиво наш автор выражает обеспокоенность упадком метафизики в современности, прежде всего забвением фундаментальной аристотелевской установки на изумление: «Позднеантичная установка, в рамках которой основной вопрос философии („что есть бытие бытийствующего и почему вообще тому, что нам дано, в определенной степени присуще качество бытийности?“) в своем неизменном виде задается совместно с основным вопросом теологии („что говорит нам Божие слово о Боге?“), по-прежнему необходима и нам. И поскольку в наше время философский вопрос более не звучит, уступив место вопросу о так называемом «точном» знании, которое сегодня пытается заменить собою философию, то данное в своей данности уже рассматривается как „об-условленное“ и о качестве бытийности, присущем данному, никто не спрашивает. Исчезновение философского вопроса ведет к тому, что теология, вместо того чтобы лицом к лицу встретить непостижимое (θαυμάσιον) в Божественном откровении, оставляет его без внимания, извлекая лишь некое предполагаемое „содержание“, и сейчас же начинает перерабатывать его по меркам собственной (правой или левой) „программы“» [Бальтазар, 2001, 8].
В качестве эпиграфа к книге взят стих из «Трудов и дней» Гесиода. Содержащаяся в нем пословица «половина больше целого» служит автору в качестве нити Ариадны. Несчастными глупцами, которые «не знают, что больше бывает, чем всё, половина» [Гесиод, 2001, 52], как считает Бальтазар, следует называть философов и богословов, которые, отталкиваясь от фрагментарного характера человеческого существования во времени, безуспешно пытались достичь Единого и Целого. Как решение проблемы, восходящей к самым истокам религии и философии, в книге представлен ответ, предложенный Богом в личности Иисуса Христа.
В первых главах Бальтазар обращается к концепции времени блж. Августина, изложенной им в последних четырех книгах «Исповеди» (о памяти, о времени, о вневременных основаниях мира, о странствующей Церкви). В них подчеркивается фрагментарный характер человеческого существования, выраженный понятием distentio («растяженность» или рассеянность во времени), в котором человек призван собрать фрагменты своего земного бытия в божественное Целое. В противовес гностическому пути простого отождествления человека с божеством блж. Августин разворачивает подлинную метафизику любви: фундаментальное distentio человеческого существования преодолевается посредством intentio («собранности» или устремленности взора), благодаря чему происходит встреча между абсолютной любовью Бога и свободой человека. Таково подлинно христианское понимание спасения, которое одновременно включает в себя окончательное свершение человека (личное измерение) и окончательное свершение истории (вселенское измерение).
Затем Бальтазар дополняет размышление о соотношении времени и вечности в учении блж. Августина рассуждениями о том, в чем может состоять путь спасения для человека как «кентаврического существа», «растянутого» между природой (общий элемент) и личностью (несравненная уникальность), ограниченного в себе (тело), но таинственным образом открытого (дух) к всеобщности бытия.
Как отмечает Бальтазар, проблема окончательного свершения человека стоит у самых истоков религиозных и философских традиций, которые пытались указать путь спасения, т. е. путь, ведущий человека к Богу. Однако религиозно-философская мысль языческого мира оказалась неспособной преодолеть внутренние противоречия человеческого существования, она представляла собой «черновые наброски спасения», предлагая лишь «лазейки для бегства», она стремилась достичь всеобщности бытия, оставив в стороне или отрицая фрагментарный характер земного существования.
Наш автор настаивает, что только путь Любви , ведущий от Бога к человеку, открывает для нас реальную возможность достичь завершенности. Этот путь проходит через кенозис Воплощения и Крестной жертвы Сына Божия. И хотя, по мнению Бальтазара, христианское Откровение не отрицает значимости усилий философской мысли для «получения доступа» к Богу, однако само оно переворачивает перспективу этих поисков, являя миру Личность Иисуса Христа, помещенную в самый центр всеобщей истории. Именно в Нем открывается, что спасение человека является воистину «сверхприродным», т. е. выходит за линию земного и смертного горизонта, оно может быть обретено только в Боге. В Нем мы также видим, как Божественная полнота воплотилась во фрагментарном человеческом существовании — чтобы позволить человеку переступить к Вечности Бога через непреодолимую грань смерти, никак при этом не отрицая реальности самой смерти. Если языческие религии спасения проповедовали жизнь, нетронутую смертью, то Евангелие возвещает спасение тому, кто находится в плену смерти, при этом совершенное бессилие оборачивается наивысшим проявлением силы, самое страшное бедствие превращается во спасение.
Наконец, Бальтазар дополняет концепцию блж. Августина о соотношении времени и вечности размышлениями об окончательном свершении истории (вселенское измерение). Как подчеркивает наш автор, объективная реальность, которую мы называем «историей», представляет собой нечто большее, чем простую сумму отдельных субъектов: «люди-субъекты — это не атомы, а человечество — не агрегат из атомов, но, скорее (при всей непосредственной близости к Богу каждой отдельной личности), все же представляет собой физическое и оптическое целое, „тесто“, как говорили Отцы, род, который сам членится на оптические целостности, например, народы, культуры, материки и т. д.» [Бальтазар, 2001, 127].
В контексте размышлений о судьбе человека возникает новый вопрос: что можно сказать в свете Откровения об истории или времени Церкви, христианской общины, собранной вокруг Слова Божьего, которая желает сегодня оставаться видимым знаком невидимого Царствия и эсхатологического спасения, обещанного всему человечеству? Церковь может существовать лишь в любви и слушании Слова Божьего, открытого Христом. Но в Церкви этот любящий ответ на любовь Бога, который избирает, всегда представлен в двух дополняющих друг друга аспектах: внешнем и внутреннем, т. е. структурно-иерархическом и духовно-харизматическом. Церковь, как и Евхаристия, является живым воспоминанием события Христа и, таким образом, несет в себе нерушимую надежду на пришествие Царствия (т. е. Вечности) в мир (т. е. время). Возможно ли написать историю восхождения нового народа Божьего к невидимому Царству? Что можно сказать о смысле всеобщей истории человечества ? В Библии можно видеть, что существует определенное напряжение между «историей спасения» (избранием Израиля и его историей) и историей остальных народов. Воплощение Превечного Слова происходит в рамках определенной исторической «констелляции» (религиозной и философской эволюции человечества), смысл которой богослов ищет в контексте уникальности и благодатного характера «христианского факта».
Возможно ли ясно проследить некий путь, который связывает историю древних народов с событием Христа, а также путь, который ведет от центрального события к окончательному явлению Царства? Именно судьбе вселенской истории и историческому пути странствующей Церкви посвящено третье размышление Бальтазара: «Наш вопрос — о судьбе этого целого, которое не несет на себе экзистенциального груза (но и достоинства) рождения и умирания вместе с индивидом и поэтому не разделяет с отдельной личностью ее ограниченного горизонта, очерчивающего ее отношения с Богом и с Христом, но как некая сплошная длительность простирается сквозь времена. Мы же вкладываем в эту временную протяженность и (употребляя это слово со всяческой предосторожностью и безоценочно) развитие как таковое некий смысл, — как и во всякое бытие или событие» [Бальтазар, 2001, 127–128].
В последних главах своей книги автор обращается к проблеме исторического существования Христа, речь при этом идет о земной жизни Иисуса из Назарета, Его смерти, воскресении, вознесении. Таким образом, в самом центре истории человечества возвышается конкретная фигура окончательного свершения человека и истории .
Человек Иисус является одновременно откровением внутренней тайны Бога и «образцом» человеческого существования в целом. Он живет одновременно временным и трагическим «рассеянием» человека, но вместе с тем и победой над ним, благодаря совершенному послушанию воле Отца. Сквозь земное существование Иисуса, таким образом, вся полнота Бога проникает в человеческую жизнь и историю. Воплощенное Слово — это место перехода Целого в часть и части в Целое.
Человеческое существование Иисуса в целом Бальтазар воспринимает как Слово Божье. Слово Христово оказывается способным принять или интегрировать в себе все человеческое существование и всеобщую историю в силу того, что оно одновременно и непреложно представляет собой «отверстие вверх», в направлении вечной тайны Бога, и «отверстие вниз», в направлении бездны грешного человека и падшего человечества. Ограничиваясь философией, человек не может прийти к утверждению, что Бог есть Любовь. Перед лицом этой тайны пути, ведущие от человека к Богу (пути спасения, которыми идет человечество), и Единый (необходимый) Путь, ведущий от Бога, через Иисуса Христа, к человеку, сходятся и расходятся. Мир, каким он предстает внешне, скорее утверждает об обратном. В крайнем случае, человек сможет сказать: Бог — это примирение противоречий земного существования, место покоя, где человек больше не страдает, где он может забыть о жизни, где болезненные границы между я и ты наконец стираются, где мы можем раствориться во всеобщем бесстрастии. Существует лишь один способ прийти к этому утверждению: если Бог явит миру, что Он самодостаточен, что Он совершенно свободен в принятии решений, что Он есть абсолютная личность. Наконец, что Он есть Тот, Кто с силой схватил руку человека, нащупывающего путь к Нему. Вот в чем состоит, по мысли Бальтазара, смысл откровения Бога в Иисусе Христе.
Слово Божье входит в человеческое существование и историю мира для того, чтобы явить полноту Любви. Там, где все человеческие усилия разгадать тайну истории и человеческой жизни потерпели неудачу, Бог входит в историю, чтобы в Иисусе Христе явить человеку «живой синтез» времени и вечности. В Нем Бог даровал реальную возможность, по ту сторону человеческой надежды, интегрировать раздробленное и несовершенное человеческое существование в полноту Бога. С Него начинается, по ту сторону всех расчетов эволюционистов и футурологов, таинственный путь рекапитуляции (Еф. 1:10) истории и мира в тайне Предвечного Сына.
Таким образом, исходная проблема, поставленная блж. Августином и рассмотренная Бальтазаром, получает решение: distentio нашего времени и нашей истории преодолевается в intentio вечной Любви Иисуса Христа. Именно это отражено в заглавии книги: если фрагмент может быть приведен к Целому, то лишь потому, что Целое вышло навстречу, чтобы в Иисусе Христе принять на себя нашу жизнь и смерть.
Размышляя над соотношением истории спасения и всемирной истории, швейцарский богослов стремится показать состоятельность последней. В качестве примера он приводит историю Древнего Израиля, который был народом, получившим обетования и продолжающим ждать. Богоизбранный народ словно закрылся во времени закона и постоянно проецирует предмет своего упования в апокалиптическое будущее. Апокалипсис Бальтазар представляет как вертикальное измерение времени, которое свободно от забот горизонтального измерения времени. Так, дела благодати или дела милосердия не должны быть обусловлены интересами политического действия. Апокалипсис как борьба между духами добра и зла в действительности и является законом истории, где человеческая сила сталкивается с Божьей благодатью. Во времена Церкви эти две силы противостоят друг другу и никакой компромисс невозможен. Именно поэтому наш автор говорит, что вертикальное измерение (т. е. благодать) не должно служить горизонтальному (т. е. власти, которая принадлежит князю мира сего). Кто победит в конце концов, сила князя мира сего или благодать? Наш автор утверждает, что победит любовь, потому что Бог уже одержал решающую победу в самоуничижении Своего Сына: «Для нас это абсолютно серьезная битва, в которой решается судьба нашего спасения, и все же она уже заранее выиграна Христом, и верующий может держаться за Его „доспехи“, чтобы потом одержать неминуемую победу» [Бальтазар, 2001, 162]. Очевидно, в этом суждении Г. У. Бальтазар опирался на идею О. Кульмана, изложенную им в работе «Христос и время» [Cullmann, 1946, 73]. Таким образом, в конечном же итоге победа будет принадлежать тому, кто стремится к поражению. Бог принял смерть Сына на кресте, и именно благодаря этому окончательную победу одержит благодать, а не насилие и грех.
Об этом швейцарский богослов пишет: «Еще раз –— главное состоит в том, чтобы увидеть: человек как духовно-телесное творение уже есть язык Бога, обращение, которое может воспринимать само себя в этом качестве и тем самым наделено способностью к ответу. Эта тварная составляющая имеет решающий голос в слове и бытии Христа. Но сверх ее речи Бог сохранил в своем сердце последнее Слово, как бы последний козырь, который теперь, когда человек, по всем признакам, проиграл всю игру, все же позволяет выиграть Ему — выиграть за человека и изнутри человека» [Бальтазар, 2001, 270].
Заключение
В богословии истории Бальтазара жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа, Сына Божьего, рассмотренные как единое событие , конституируют центр всемирной истории. В личности Иисуса из Назарета уникальным образом соединилась вечность Бога и человеческое время. В годы, когда католичество в рамках «естественной теологии» было занято скорее вопросом об онтологической сущности Бога, чем домостроительством спасения, Бальтазар указал богословию истории путь к центру, к исторической личности Иисуса Христа, Предвечного Сына Божия. Время Иисуса Христа он представил как общую «норму» истории. Христос жил во времени, пребывая неотлучно в вечности, именно в этом смысле Он предстает в работах нашего автора как universale concretum et personale, т. е. «конкретная личная и историческая идея» [Бальтазар, 2006, 82]. Боговоплощение Сына имеет далеко идущие последствия: Он не только принес спасение, явил Отца, но и как один из нас, как истинный человек прожил свою земную жизнь, погрузившись в историческое время человеческого существования. Поэтому для христиан не представляет интереса вопрос, как долго продлится земная история, когда вновь придет Господь и наступит конец истории. Задача христиан состоит в том, чтобы привести свою частную историю своей жизни и всеобщую историю в соответствие с Божьим планом спасения, разворачивающимся в этом мире. Поступая так, человек становится соработником Бога в расширении Царства Божьего уже здесь, на земле, в ожидании Его пришествия во славе.
Список литературы "Возвращение к центру": богословие истории Ганса Урса фон Бальтазара
- Бальтазар (2001) — Бальтазар Х. У., фон. Целое во фрагменте: некоторые аспекты теологии истории / Пер. с нем. А. Ярин. М.: Истина и Жизнь, 2001.
- Бальтазар (2006) — Бальтазар Х.У. фон. Теология истории / Пер. с нем. А. Ярин. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006.
- Гесиод (2001) — Гесиод. Полное собрание текстов. М.: Лабиринт, 2001. 256 с.
- Сизоненко (2022) — Сизоненко Д., прот. Католическое богословие истории XX века: между эсхатологизмом и инкарнационизмом // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2022. № 4 (16). С. 81-93.
- Balthasar (1950) — Balthasar H. U, von. Theologie der Geschichte: ein Grundriss // Münchener Theologische Zeitschrift. 1950. T. 1 (2). S. 16-34; T. 1 (3). S. 31-50.
- Balthasar (1963) — Balthasar H.U., von. Das Ganze im Fragment: Aspekte der Geschichtstheologie. Einsiedeln: Johannes Verlag, 1963.
- Balthasar (1967) — Balthasar H. U, von. A Theological Anthropology. New York: Sheed & Ward, 1967.
- Balthasar (1968) — Balthasar H. U, von. Man in History: a Theological Study. London: Sheed & Ward, 1968.
- Balthasar (1970) — Balthasar H. U, von. De l'Intégration. Aspects d'une théologie de l'histoire. Paris: Desclée de Brouwer, 1970.
- Congar (1950) — Congar Y. Bulletin de Théologie dogmatique // Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques. 1950. T. 34. P. 654-655.
- Cullmann (1946) — Cullmann O. Christus und die Zeit. Die urchristliche Zeit- und Geschichtsauffassung. Zürich: Evangelischer Verlag, 1946.
- Pasquale (2001) — Pasquale G. La teologia della storia della slavezza nel secolo XX. Bologna: Edizioni Dehoniane, 2001.