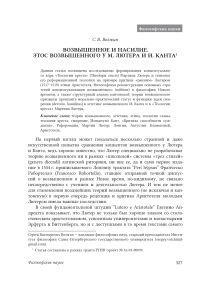Возвышенное и насилие. Этос возвышенного у М. Лютера и И. Канта
Автор: Волжин Сергей Викторович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 4 (75), 2017 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена исследованию формирования концептуального ядра «Теологии креста» (Teologia crucis) Мартина Лютера и генезиса его реформационной теологии на примере критики «ранним» Лютером (1517-1519) этики Аристотеля. Философская реконструкция основных стратегий концептуализации возвышенного (sublime) в философии Нового времени, а также структурный анализ кантовской теории возвышенного призваны прояснить морально-практический статус и функцию идеи смирения (devotio, humilitas) в эстетике возвышенного И. Канта и в «Теологии креста» Мартина Лютера.
Теория возвышенного, эстетика, этика, теология славы, теология креста, смирение, иммануил кант, "критика способности суждения", реформация, мартин лютер, лонгин, августин блаженный, аристотель
Короткий адрес: https://sciup.org/140223440
IDR: 140223440
Текст научной статьи Возвышенное и насилие. Этос возвышенного у М. Лютера и И. Канта
На первый взгляд может показаться несколько странной и даже искусственной попытка сравнения концептов возвышенного у Лютера и Канта, ведь хорошо известно, что Лютер специально не разрабатывал теорию возвышенного ни в рамках «школьной» системы «трех стилей» (genera dicendi) латинской риторики, ни вне ее, да и само первое издание в 1554 г. приписываемого Лонгину трактата “Perί hỳpsus” Франческо Робортелло (Francesco Robortello), ставшее отправной точкой дискуссий о возвышенном в раннее Новое время, по-видимому, не связано непосредственно с учением и деятельностью Лютера. И тем не менее для становления позднейших теорий возвышенного (не исключая и кантовскую) в первую очередь рецепция и критика Аристотеля молодым Лютером имела важные последствия.
В своей фундаментальной штудии “Lutero e Aristotele” Евгенио Ан-дреатта показывает, что Лютер не только был хорошо знаком со схоластическим аристотелизмом, усвоенным университетами и монастырями Эрфурта и Виттенберга, но и с доступными в то время текстами самого
Аристотеля по логике, диалектике, риторике и поэтике, психологии, метафизике и теологии, физике, космологии, астрономии и метеорологии, этике и политике2. Не только критика «схоластов», не только «воцарение Аристотеля» в теологии и на университетских кафедрах является объектом критики Лютера, нет: Лютер предстает в штудии Ан-дреатта как знаток аристотелевских текстов, претендующий на точное знание «первоисточника», а потому «работающий» с ним в соответствии с четко выстроенной стратегией — показать несовместимость Аристотеля с христианством. Отчасти это подтверждается и более поздними свидетельствами, например, когда в период реформационной борьбы Лютер пишет курфюрсту Фридриху: «Я знаю, что причинила мне схоластическая теология, и я знаю также, чем я ей обязан; я рад, что спасен от нее, и за это я благодарю Христа, Господа моего. Нет нужды, чтобы вы учили меня этой теологии, ибо я знаю ее, и невозможно, чтобы вы примирили меня с нею — я не желаю ее»3. По словам Теодора Дитера, исследование Андреатта приходит к выводу, что, «по-видимому, средоточие лютеро-вой критики Аристотеля состоит в следующем: распять метафизический разум, дабы освободить место для веры и допустить практического, ан-тиспекулятивного Аристотеля»4.
Разумеется, каждое время знает «своего» Аристотеля; исключения не составляет в этом и «точное знание Аристотеля» Лютером. И вопрос, пожалуй, здесь сводится не только к реконструкции горизонтов лютеровской рецепции Аристотеля и ответу на вопрос, какого именно «Аристотеля» знал Лютер и его эпоха. Исследование Теодора Дитера, посвященное анализу рецепции Аристотеля молодым Лютером, в этом отношении весьма показательно.
Дитер обращает внимание, что уже в probatio к 28-му тезису «Гейдельбергской диспутации» Лютер выдвигает — пока еще в самых общих чертах — основной контраргумент аристотелевскому учению о нравственности: согласно Лютеру, масштабом учения о нравственности у Аристотеля служит онтическая структура грешника, а именно укорененное в ней стремление всегда и «во всем искать своего»; но этот масштаб находится в противоречии с теологией5. Поскольку же Аристотель полагает добро как то, ради чего и с ориентацией на что осуществляется деятельное бытие человека, то вопрос Лютера, обращенный непосредственно к Аристотелю, о человеке, который во всем ищет (in omnibus quaerit) такое добро, представляется Дитеру вполне правомерным. Уверенность, что Аристотель полагает человека ищущим в качестве своей последней цели свое добро и свое счастье, приводит Лютера к мысли, что, по Аристотелю, человек «во всем ищет своего». Это суждение Лютера об аристотелевском понятии человека может иметь силу, однако лишь в том случае, если верно, что «аристотелевский» человек скорее стремится принимать добро, нежели давать его (accipit bonum potis quam tribuit). И ведь именно это почти буквально и утверждает Аристотель, когда говорит в Никомаховой этике, что большинство людей скорее желают добро воспринимать, нежели делать6. Однако эгоистическое самолюбие Аристотель отличает от подлинно нравственной любви к самому себе, которая задана разумной частью нашей души и которая, охотнее давая, тем более стяжает высшее благо, т. е. стяжает тем самым нравственно-прекрасное. Теодор Дитер в своем анализе аргументации Лютера против Аристотеля в тексте «Гейдельбергской диспутации» отмечает, что понимаемые в аристотелевском смысле quaerere quae sua sunt (искать своего) и quaerere quae alterius sunt (искать еще и иного) не могут находиться в явном противоречии, поскольку справедливый человек в аристотелевском смысле всякому «воздает свое и никого не лишает ему положенного»; но Лютер не только мыслит quaerere quae sua sunt в оппозиции к quaerere quae alterius sunt, но и в оппозиции к quaerere quae Dei sunt (искать Божьего)7. Вместе с тем для понимания аргументации Лютера важна также ссылка на то, что аристотелевское определение счастья как деятельного бытия, сообразного добродетели, еще достаточно внятно прочитывается в мысли о том, что Бог есть finis ultimus (последняя цель) и что счастье обретаемо лишь в Боге. Эта мысль прочно закрепилась в позднесхоластической западной традиции8.
С другой стороны, блаж. Августин, на которого во многом опирается «ранний» Лютер, как известно, признавал, что земная жизнь христианина в некоторой степени может рассматриваться как счастливая, если она опирается на pietas и spes. К вопросу о возможности блаженства в рамках земной жизни у блаж. Августина тесно примыкает и вопрос о различии между наслаждением и использованием, точнее — унаследованная блаж. Августином из сочинений Марка Теренция Варона понятийная пара frui — uti9. Uti и frui означают два вида отношения воли к вещи (res): воля может желать или любить нечто либо ради себя (propter se), либо ради иного (propter aliud), причем то, что любят ради него самого, есть финальное, т. е. то, в чем заключено и счастье10. Поэтому лишь вечное и неизменное (Бог) заслуживает того, чтобы его любили ради него самого, в то время как все сотворенное мира можно любить лишь ради того, чтобы достичь наслаждения вечности: подлинный предмет frui — суть то, в чем воля приходит к покою. Понятие frui Deo эксплицирует блаж. Августин в своем труде De Doctrina Christiana (396‒426/27); в первой книге этого сочинения frui определяется как поддерживаемая любовью связь с вещью ради нее самой (Frui est enim amore inherere alicui rei propter se ipsam); uti координировано frui Deo как такое отношение, при котором все земные ценности и интересы in via релятивированы и оказываются поставленными в зависимость от beatitudо in patria.
Ретроспекция аристотелевского учения аффектов позволяет увидеть и дальнейшее расхождение позиций Лютера и Аристотеля. Согласно последнему, аффекты — суть физические феномены, связанные с наслаждением и болью11. С аффектом всегда связано стремление, которое способствует (в случае наслаждения) или же, наоборот, препятствует/ отклоняет (в случае боли) определенное воздействие на жизнь человека. При этом руководящим мотивом выступает максима: бытие есть то, чего все существа вожделеют и любят12. В сфере нравственного — например, в добродетели — аффекты подчиняются руководству разума: разум взвешивает условия, вызывающие тот или иной аффект, соразмеряя неблагоприятное воздействие (в той мере, в какой аффект связан с болью) с другими благами данного человека, как и с благами окружающих людей. И хотя страдание и боль не приветствуются, тем не менее они в качестве аффектов испытываются добродетельным человеком иначе, чем человеком порочным, как аффект она даже может быть в определенных обстоятельствах даже принята. И все же в координатах аристотелевской этики телесное страдание само по себе не благо: аффекты наслаждения и страдания связаны с восприятием живого существа и ориентированы на сохранение телесной жизни.
Существенно иначе дело обстоит у ап. Павла. Во втором послании к Коринфянам (2 Кор. 7:9–11) ап. Павел говорит о двоякой печали — печали ради Бога (печаль к покаянию и спасению) и мирской печали, связанной с утратой мирского благополучия и неосуществления мирских чаяний. Печаль мирская ведет к смерти; печаль ради Бога «производит неизменное покаяние и ведет к спасению», и потому апостол «радуется» этой печали. Не сама по себе печаль и не само по себе страдание здесь объявлены положительными, а как печаль и страдание, имеющие в виду malum Креста. Теодор Дитер особо выделяет этот ключевой пункт расхождения Лютера со схоластической традицией: «На примере отношения к страданию становится особенно заметной чуждость аристотелевского мышления по отношению к христианской вере. Критика „Тезисов об отпущении грехов“ (Ablassthesen) укрепила Лютера в его суждении, что схоластическая теология как theologia gloriae (теология славы), которая позволяет аристотелевской мысли руководить собою, находится в жестком противоречии с theologia crucis (теологией Креста), которой следует апостол Павел. Она [схоластическая теология] не способна понять malum Креста как amabile (достойный любви), но может его лишь ненавидеть как res pessima (самое худшее)»13.
Бог как summum bonum открывается в Теологии креста sub contraria — в бессилии, в глупости, в страдании и в пределе — в malum Креста. Бог является как absconditu[s] in passionibus (V; 388,35), как сокровенный в «ветхом» «новый» человек. Величайшее умалилось, наивысшее стало низшим, снизошло в мир добровольно, свободно; ни с чем не сравнимое уравнялось нам, стало как мы, приняло страдания и смерть ради нас. Summum bonum на Кресте! — в этом Лютер видит отчетливо кризис всей схоластической традиции интерпретации amor hominis и человеческой любви к Богу, здесь он подводит нас к порогу: любовь к человеку и Богу либо возникает из amor crucis, либо ее вовсе нет. При этом определяющим настроением здесь становится смирение (devotio, humilitas). Смирение — это отнюдь не покорность внешнему могуществу перед лицом собственного ничтожества; в смирении суд Бога водворяется в «пространство и время» человека как этого (и в этом «самосуде» просматривается также источник и главная движущая пружина, если угодно — основной моральный мотив «критического предприятия» в философии); смирение исходит из quaerere quae Dei sunt как своего центра и удерживает от крайностей, являющихся сторонами одной медали: с одной стороны — от соскальзывания в отчаяние (из фиксации ничтожности «я» «помимо и вне Бога»), а с другой стороны — от падения в эгоистичное quaerere quae sua sunt (искание своего). Настрой души, при котором она беспощадно обличает свои моральные недостатки, Кант впоследствии назовет возвышенным.
* * *
Как уже было отмечено выше, теории возвышенного новоевропейской философии уходят корнями в обнаружение и первое издание в 1554 г. приписываемого Лонгину трактата “Perί hỳpsus” Франческо Робортелло (Francesco Robortello). Уже титульный лист издания, озаглавленного “liber de grandi, sive svblimi orationis genere”, оповещает читателя о том, что текст Лонгина сопровождается обширными примечаниями в маргиналиях, целью которых является не только и не столько разъяснение отдельных структурных составляющих текста, сколько интеграция трактата в традиционную систематику «трех стилей» (genera dicendi) латинской риторики. Дитмар Тилль в своем фундаментальном исследовании «Двойное возвышенное: Аргументативная фигура начиная с Античности вплоть до начала XIX века» (“Das doppelte Erhabene: Eine Argumentationsfigur von der Antike bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts”) отмечает, что предпринятая уже Ро-бортелло латинизация лонгиновского понятия hỳpsos и идентификация его со стилем в смысле стиля «высокого рода» (genus grande), воспринятая в дальнейших переводах (не только на «школьный» латинский, но и народные языки) и переизданиях в XVI и XVII вв. приписываемого Лонгину трактата, позволяет говорить об определенном «мейнстриме» в интенции интерпретировать и интегрировать «лонгиново» понятие возвышенного в систему терминологии «школьной» риторики14. Существенно также и то обстоятельство, что Лонгин с точки зрения раннего Нового времени и вплоть до XVII в. отнюдь не был «классическим» автором15. Вместе с тем обсуждаемый трактат о возвышенном едва ли «без остатка» встраивается в традиционную доктрину риторики, которая, по словам Барнера, «черпала из Аристотеля и Горация, Цицерона и Квинтиллиана», опираясь на образцы в лице «Цицерона, Горация, Вергилия и Овидия, с помощью которых был совершен шаг к собственной imitatio»16. Дихотомия теории и практики риторики в XVI‒XVII вв. — теоретическая разработка «школьной» риторики как учебной дисциплины (ars) в университетах (Rhétoique d’école, по словам Фумароли) и риторическая прагматика в политическом официозе дворов — вот основной контекст рецепции трактата о возвышенном, который считался еще и в XVIII в. трактатом Лонгина, в эту пору. Споры второй половины XVII в. о значимости античной нормативности в поэтике между сторонниками и противниками цицеронизма заставили по-новому взглянуть на роль этого трактата: по словам Лея, дело шло о «преодолении позиций классицизма»17. Николя Бульё (Nicolas Boileau, 1636‒1711) в своем переводе трактата о возвышенном, изданном под названием “Traité du sublime” (1674), интерпретирует возвышенное (hỳpsos) как принципиальную альтернативу учения «о трех стилях»: он проводит четкое разграничение между риторическим “stile sublime” и “le sublime” античного автора (Лонгина). “Le sublime” основано целиком и полностью на natura поэта или ритора, причем даваемая Бульё интерпретация natura как источника возвышенного выводит за рамки ограниченной ars rhetorica оппозиции ars и natura, и потому “le sublime” не сводимо к риторическому “stile sublime” (De subl. 8, 1). Именно из дихотомии Бульё и инструментализации понятия (hỳpsos) в дальнейшем спорадически развиваются ранние новоевропейские учения о гении. Еще более важным представляется легитимация пары simplicité — sublime, как это можно видеть уже в понятии «благородной простоты» (“eine edle Einfalt und eine stille Grösse”) у Винкельмана18. Сколь важна эта связка в контексте эстетических дискуссий второй половины XVIII в., показывает уже ранняя докритическая работа Канта «О чувстве возвышенного и прекрасного» (1764), где Кант говорит: «…возвышенное должно быть просто, прекрасное может быть почищенным и украшенным»19. Мысль «докритического» Канта опирается на уже устоявшуюся в вольфовском просвещении связку simplicité — sublime: возвышенное должно быть просто, ему не пристало быть «украшенным». Этот взгляд Канта противоположен риторической доктрине, согласно которой «высокое» в соответствии с принципом конгруэнции выражения и выражаемого (aptum) должно описываться «высокими» словами. И хотя ни у Канта, ни у Эдмунда Бёрка понятие hỳpsos из приписываемого Лонгину трактата, по-видимому, не играет решающей роли, все же различие и соотношение «природного» и «риторического» возвышенного, утвердившееся в традиции благодаря активной рецепции перевода трактата Бульё20, еще дают о себе знать. Вместе с тем следует отметить, что апелляция к «природе» как к топосу возвышенного, имеющая место у Эддисона, Шефтсбери, Бёрка и Канта, встречается уже у «самого Лонгина»: им приводятся широкие реки (Нил, Дунай), огромный безбрежный океан, огнедышащий кратер Этны и др. (ср.: Perί hỳpsus, 35, 4).
* * *
23 Трансцендентальный аргумент Канта сводится к тому, что наши телеологические суждения суть не определяющие, а рефлектирующие, т. е. такие, которые основаны не на объективной структуре предметов, а на нашей способности суждения о них.
регулятивный характер телеологического принципа как максимы в архитектонике естествознания.
Специфика возвышенного в природе состоит, по Канту, именно в том, что оно не приводит нас ни к принципу телеологии, ни к раскрытию какой-либо особой формы в природе, а потому в своей теории возвышенного Кант видит «простой придаток к эстетическому суждению о целесообразности природы». Кант считает, что понятие возвышенного в природе свидетельствует отнюдь не о целесообразности в самой природе, а только «о возможном использовании» наших созерцаний природы для того, чтобы «ощутить в нас самих совершенно независимую от природы целесообразность». Говоря кратко: «основание для прекрасного в природе мы должны искать вне нас, основание для возвышенного — только в нас и в образе мыслей, который привносит возвышенность в представление о природе»25.
Чувство возвышенного испытывается, когда мы сталкиваемся в стихии неукрощенной природы (rohe Natur) с чем-то беспредельным, необъятным или потрясающим нас своей безмерностью или могуществом. Безбрежный океан, гигантские хаосы гор, извержение вулкана, разрушительное по своей мощи землетрясение (важная оговорка Канта: при условии, что мы не подвергаемся непосредственной угрозе!) — все это пробуждает мысль об Абсолюте.
Говоря в § 25 «Критики способности суждения» о математическом возвышенном, Кант обращает внимание, что, называя что-либо не просто большим, а большим вне всякого сравнения, абсолютно большим или собственно возвышенным, мы ищем соответствующий такому предмету масштаб не вне его, а только в нем самом: «перед нами величина, равная лишь самой себе». Возвышенно то, в сравнении с чем все остальное мало. Иными словами: в природе мы не найдем ничего, что не могло бы быть сведено нами как к бесконечно малому, так и к бесконечно большому. Поэтому не чувственные предметы велики, а «использование способностью суждения некоторых предметов» для того, чтобы вызвать в нас чувство величия, и каждое «другое использование по сравнению с ним мало»26.
Как же возникает в нас чувство математически возвышенного? Созерцая какое-либо количество и фиксируя его воображением (используя количество как меру или же как число в определении величины), необходим двоякий акт: схватывание (apprehensio) и соединение (comprehensio aesthetica). Схватывание просто: оно может продолжаться до бесконечности, а вот с соединением возникает та трудность, что, чем дальше продвигается схватывание, то тем дольше оно со временем достигает своего максимума, а именно «наибольшей эстетической основной меры в определении величины». Теряя на одной стороне столько же, сколько выигрывая на другой, соединение охватывает то наибольшее, за пределы которого воображение уже выйти не может. Иными словами: поскольку воображение действует так, что оно воспроизводит предыдущие части по мере поступления последующих частей, то у него есть максимум единовременного охвата, и пока оно действует как последовательное схватывание частей, этот максимум не достигается. Но, столкнувшись с безмерным, воображение испытывает ограниченность предела своей собственной функции и, «стремясь расширить его, сосредоточивается на самом себе»27. Оно подвержено насилию: напряжено до предела, доведено до максимума и даже вынуждено пожертвовать своей свободой, определенной его эмпирическим назначением, в силу чего оно оказывается целесообразно определенным согласно иному закону, исходящему не из законов его эмпирического назначения и использования. И именно из этой иной законодательной инстанции воображение обретает импульс для расширения максимума своей функции производства образов и обретения мощи, превосходящей ту мощь, которой оно жертвует.
И хотя кажется, что у Канта безмерное чувственно воспринимаемой природы является источником указанного насилия, но на самом деле это лишь видимость, и видимость эта обманчива: на самом деле, по Канту, источником этого напряжения выступает сам разум, который и заставляет воображение вновь объединять безмерное чувственно воспринимаемого мира в некую целостность. По Канту, прообраз этой целостности — Идея разума, причем Идея практически заданная. Разум требует тотальности охвата в созерцании — а значит, и изображении — всех членов ряда числовой прогрессии, не исключая и бесконечности. Но если мера природы — ее абсолютное целое, то воображение, исчерпав свой потенциал соединения, «должно привести понятие природы к сверхчувственному субстрату (лежащему в ее основе и одновременно в основе нашей способности мыслить)»; однако же этот субстрат «превышает по своей величине всякий чувственный масштаб», и в этом Кант видит основание, которое позволяет нам «считать возвышенным не предмет, а нашу душевную способность при определении этого предмета». Наше чувство возвышенного в природе есть на самом деле уважение к нашему назначению, которое мы лишь приписываем объекту природы посредством своеобразной подстановки: Кант определяет ее как «смешение уважения к объекту с уважением к идее человечества в нас как субъекте». Именно из-за этого смешения для нас становится наглядным превосходство назначения наших способностей познания над высшей способностью чувственности. Здесь-то и раскрывается сверхчувственное назначение наших способностей: воображение не в силах дать адекватное представление Идее — отсюда неудовольствие и боль, сопутствующие чувству возвышенного; но эта боль связана с удовольствием, причем двояким: бессилие воображения подтверждает ему, что оно хочет представлять даже то, что по своей сверхчувственной природе непредставимо28, а с другой стороны — нехватка образного потенциала свидетельствует нам о могуществе и власти мира Идей, а последним и определяется, по Канту, закон нашей природы. Здесь связь между способностями с необходимостью заключает в себе момент рассогласования, противоречия и величайшего напряжения, из которого должно возникнуть и быть порождено согласие. В этом — пафос возвышенного, отличающий его от умиротворенности чувства прекрасного.
Если же природа рассматривается в эстетическом суждении как могущество, которое, однако, не имеет над нами абсолютной власти, то в этом случае природа характеризуется как «динамически возвышенная». С одной стороны, представляемая себе так природа возбуждает страх; с другой стороны, Кант отмечает, что испытывающий страх перед могуществом не знает и не может знать ничего возвышенного в природе. Кант поясняет это аналогией: как «добродетельный человек боится Бога, не испытывая перед ним страха», — ведь такой человек не беспокоится, что ему захочется сопротивляться Богу и его заветам, — так и непреодолимость могущества природы — хотя мы и можем при этом ощущать нашу физическую беспомощность — одновременно с этим «открывает в нас способность судить о себе как о независимых от природы» существах, над которыми она не властна.
Кульминацию возвышенного душевного настроения Кант видит в религиозном настрое, который столь же несводим к гордому, эгоистичному самовосхвалению, как и к страху, подавленности и бессилию перед могуществом справедливой и неодолимой воли: «Только тогда, когда человек сознает в себе искреннюю, богоугодную настроенность, действия такого могущества способны пробудить в нем идею возвышенности этого существа, поскольку он сознает в себе самом соответствующую этой воле возвышенность настроенности, а это поднимает его над страхом перед подобными действиями природы, которые он уже не рассматривает как проявления гнева Божия»29.
Смирение — ключевой мотив и определяющее настроение души и, если угодно, антропологический базис Theologia crucis Лютера — Кант ставит в центр своего пояснения возвышенного душевного настроения. Примечательно и то, как Кант понимает смирение. В смирении он видит прежде всего «беспощадное суждение о недостатках человеческой природы», которые даже при сознании добрых намерений не подлежат никакому оправданию слабостями этой (человеческой) природы; такое смирение и есть, по Канту, подлинная возвышенная душевная настроенность, которая свободно предается «страданию, испытываемому от сделанных самому себе упреков» исключительно ради того, чтобы «таким образом постепенно искоренить их причину»30. В этом видит Кант ключевое отличие религии от суеверия: суеверие рождает не благоговение перед возвышенным, а страх перед могущественным, перед которым суеверный ищет снискать его благосклонности. Вместе с тем в этом кантовском «чтобы таким образом постепенно искоренить их причину» проступают контуры моральной трактовки смирения как настроя, ищущего осуществления морального назначения человека.
Если суждение о прекрасном опирается на общее чувство — вкус — и общесообщаемо, то с суждением о возвышенном в природе дело обстоит, по Канту, иначе: здесь требуется значительно «большая культура не только эстетической способности суждения, но и познавательных способностей, которые лежат в ее основе». Для чувства возвышенного требуется восприимчивость к идеям; ведь именно в несоответствии природы этим идеям и заключена, по Канту, власть разума над чувственностью, власть, которая заставляет и влечет ее заглянуть в бесконечное, «которое для нее — бездна». Но Кант сразу же делает и другую важную оговорку: суждение о возвышенном не означает, что оно искусственно создано культурой и лишь конвенционально — нет, оно укоренено в природе человека. Как человека, равнодушного в своем суждении о прекрасном для всех предмете природы, мы считаем лишенным вкуса, так и человека, не взволнованного возвышенным, мы сочтем лишенным чувства — морального чувства! Именно ссылкой на априорный и всеобщий характер морального чувства Кант проводит четкое разграничение с областью эмпирической психологии: «В этой модальности эстетических суждений, а именно в необходимости, на которую они притязают, заключен главный момент критики способности суждения»31.
Список литературы Возвышенное и насилие. Этос возвышенного у М. Лютера и И. Канта
- Гаман И. Г., Якоби Ф. Г. Философия чувства и веры. СПб.: ПИЯФ РАН, 2006.
- Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. М.: Альма Матер: Академический проект, 2010.
- Andreata E. Lutero e Aristotele, CUSL Nuovavita, 1996.
- Augustinus. De doctrina christiana, I.// URL: htp://www.augustinus.it/latino/ dotrina_cristiana/index2.htm (дата обращения: 10.09.2016).
- Aristoteles. Ethica Nicomachea(EN), IX.// URL: htp://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/nikomah.txt_with-big-pictures.html#9 (дата обращения: 10.09.2016).
- Barner W. Barockrhetorik. Untersuchungen zu ihren geschichtlichen Grundlagen.Tübingen: Niemeyer, 1970.
- Begemann Ch. Erhabene Natur//Deutsche Vierteljahrsschrif für Literatur-wissenschaf Und Geistesgeschichte, 58 (1):74-110 (1984).
- Brand R. Johann Joachim Winckelmann 1717-1768. Hrsg. v. Tomas W. Gaehtgens.Hamberg, 1986 (=Studien zum achtzehnten Jahrhundert, Bd.7).
- Dieter T. Der junge Luther und Aristoteles. Eine historisch-systematischeUntersuchung zum Verhältnis von Teologie und Philosophie. Walter de Gruyter-Verlag, 2001.
- Luther M. Weimarer Lutherausgabe (WA), 120 Bände, 1883-2009 (Sonderedition2000-2007).
- Till D. Das doppelte Erhabene: Eine Argumentationsfigur von der Antike biszum Beginn des 19. Jahrhunderts, Oskar Nimeyer Verlag, Tübingen, 2006.
- Ley K. Das Erhabene als Element frühmoderner Bewusstseinsbildung. Zuden Anfängen der neuzeitlichen Longin-Rezeption in der Rhetorik und Poetik desCinquecento//Plet, H.-F.(Hg.): Renaissance-Poetik, Berlin: De Gruyter,1994.S. 241-259.
- Maurer K. Boileaus Übersetzung der Schrif περι ὔψούς als Text des franzӧsischen17. Jahrhunderts.//Le Classicisme… Hrsg. v. Hallmut Flashar. Genf, 1979.
- Brody J. Boileau and Longinus//Histoire des Idées et Critique Litéraire, Issue5015, Librairie Droz, 1958.
- Kant I. Beobachtungen über das Gefühl des Schoenen und Erhabenen(1764)//Werke. Bd. 1: Vorkritische Schrifen bis 1768. Hrsg. v. Wilhelm Weischedel.Darmstadt, 1983.
- Kant I. Kritik der Urteilskraf, Werkausgabe/hrsg. von Wilhelm Weischedel.Bd. 10. Darmstadt, Wissenschafliche Buchgesellschaf, 1968.