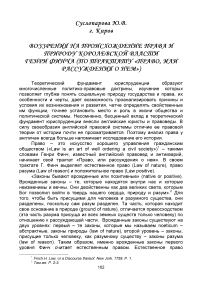Воззрения на происхождение права и природу королевской власти Генри Финча (по трактату «Право, или рассуждения о нем»)
Автор: Суслопарова Ю.В.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Статья в выпуске: 2, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14931140
IDR: 14931140
Текст статьи Воззрения на происхождение права и природу королевской власти Генри Финча (по трактату «Право, или рассуждения о нем»)
Теоретический фундамент юриспруденции образуют многочисленные политико-правовые доктрины, изучение которых позволяет глубже понять социальную природу государства и права, их особенности и черты, дает возможность проанализировать причины и условия их возникновения и развития, четче определять свойственные им функции, точнее установить место и роль в жизни общества и политической системы. Несомненно, бесценный вклад в теоретический фундамент юриспруденции внесли английские юристы и правоведы. В силу своеобразия английской правовой системы отличие ее правовой теории от истории почти не просматривается. Поэтому анализ права у англичан всегда больше напоминает исследование его истории.
Право – это искусство хорошего управления гражданским обществом («Law is an art of well ordering a civil society»)1 – такими словами Генри Финч, известный английский правовед и антикварий, начинает свой трактат «Право, или рассуждения о нем». В своем трактате Г. Финч выделяет естественное право (Law of nature), право разума (Law of reason) и положительное право (Law positive).
«Законы бывают врожденные или позитивные» (native or positive). Врожденные законы – те, которые находятся внутри нас и которые неизменимы и вечны. Они двойственны как два великих света, которым Бог позволил войти в твердь нашего сердца, природу и разум».2 Для того, чтобы быть присущими для человека и разумного существа, они разделены, поскольку сам разум разделен. Та часть, которая находит свое основание в природе (ground of nature), отличается превосходством (эта часть разума присуща из всех земных существ только человеку) по отношению к рассуждающей части. Врожденные законы существуют на двух уровнях: первый – те законы, которые мы называем noeticum – абстрактные, законы природы (law of nature), второй уровень – законы, присущие только человеку, как разумному существу – законы разума (law of reason). Таким образом, именно врожденные законы первого уровня Финч считает естественным правом. Естественное право
(естественные законы) – то, что является главной причиной (главным критерием) в человеческой натуре, которая определяет общие принципы добра и зла («The law of nature is that sovereign reason fired in mans nature which ministreth common principles of good and evil»).1 Эти принципы в действительности есть не что иное, что ранее говорили философы: что люди должны жить в мире друг с другом, что мы не должны делать того, чего не хотели бы, чтобы делали нам, что правосудие должно быть доступно и едино для всех людей. При этом Финч активно ссылается и цитирует Цицерона, Платона и Туллия, где они говорят о высоком и главном праве для всех, а также сравнивают свет естественного права со светом солнца, самого прекрасного и чистого в глазах людей («light of the sun finest most clearly in the eyes of all man»).2 Таким образом, можно предположить, что Генри Финч отождествляет естественное право с моральными, нравственными нормами.
Принципы совместного счастливого существования людей списаны Финчем именно с Цицерона. Кроме того, рассуждая о всеобщем разуме, Финч явно (или неявно) воспроизводит Цицерона, который связывал возникновение государства (также и права) не с мнением и произволом людей, а согласно всеобщим требованиям природы, в том числе и согласно велениям человеческой природы: «… причиной объединения был не страх быть растерзанными дикими зверями, а скорее сама человеческая природа и что объединились они потому, что человеческая природа избегает одиночества и стремится к общению и союзу». 3 В трактовке Цицерона это означает, что по своей природе и сущности они (государство и право) носят божественный характер и основаны на всеобщем разуме и справедливости. Изучение всей природы, отмечал Цицерон, приводит к пониманию того, что «всем этим миром правит разум».4 Данное положение, сформулированное еще древнегреческим философом Анаксагором, используется Цицероном для обоснования своего понимания «природы» как обусловленного и пронизанного божественной волей всеобщего источника разумных и справедливых установлении и действий людей. Именно благодаря тому, что люди самой природой наделены «семенами» разума и справедливости5 и, следовательно, им доступно постижение божественных начал, стало возможным само возникновение упорядоченного человеческого общения, добродетелей, государства и права. Разум – высшая и лучшая часть души, «царский империй», обуздывающий все низменные чувства и страсти в человеке (алчность, жажду власти и славы и т.д.), «мятеж души». Поэтому, писал Цицерон, «при господстве мудрости нет места ни для страстей, ни для гнева, ни для необдуманных поступков».1
Позитивные законы, по мнению Генри Финча, существуют в трех видах. Первый вид – законы, которые «получили свет» (a positive are laws framed be their lights») и соответствуют естественному праву и праву разума. К данному виду позитивного права относится общее право Англии (common law of England). Общее право Англии, по определению Финча, – это право, «использовавшееся в незапамятные времена на территории всего королевства» («used time of mind or by prescription throughout the realm»).1
Второй вид позитивных законов – своего рода квазизаконы, которые в силу своей природы и сущности не могут быть одобрены естественным правом, правом разума, а следовательно, Богом. Пример такого рода законов – закон древних египтян обращать женщин в товар. К третьему виду позитивных законов Финч относит не противоречащие естественному праву и праву разума законы различных народов, отличающиеся «в зависимости от конституций и главенствующих законов отдельных местностей и стран» («according to the federal and divers constitutions of particular places and countries»).2 Так были законы Моисея у израильтян, древнее право у греков, законы 12 Таблиц и гражданское право у римлян, существенно отличающиеся друг от друга, и таковым было общее право в Англии. «Почти сколько было людей, столько законов; и эти законы отличались один от другого; одни и те же законы могут быть изменены или заменены, пока не затронут двух основных прав: естественного права и права разума» («almost so many people so many laws; and as those laws are divers one from another, so one and the self same laws may be altered and changed in themselves, so long as no alteration is permitted against the two main laws of nature and reason»).3
Королевской власти и королю в трактате Генри Финча предписывается божественный характер, что является типичной тенденцией среди английских юристов на протяжении, наверное, практически всей истории Королевства. «Божественные установления присутствуют среди людей и, можно сказать, Бог пребывает на земле (God’s stamp and mark among men and being as one may say a God upon earth)».4 При этом Финч особенно выделяет два главных свойства, присущих «Его священному величеству» (sacred majesty): первое – безграничность его природы (the infiniteness of his nature); второе – божественное совершенство (divine perfection). Наместником бога на земле Финч называет короля: «Король – глава содружества, действующий непосредственно под властью Бога» («The kings is the head of the commonwealth, immediate under God»)1; и королю в той или иной степени присущи отмеченные свойства Бога: безграничность природы проявляется в том, что король в некоторой степени присутствует всюду и именем короля выносится любое судебное решение; совершенство короля в том, что «в короле невозможно представить какое-либо несовершенство, в короле нет небрежности или равнодушия, нет безумства, нет подлости, нет грязи или порочности в крови» («in the king no imperfect thing can be thought, no (a) negligence or laches, no folly, no infamy, no stain or corruption of blood»).2 Далее Финч цитирует Брактона: «Закон дает королю доминирующее положение (The law, saith Bracton, gives unto the king dominationem potestatem). Он имеет абсолютную власть над всеми (He hath absolute power over all)».3 «Никто не может быть равным ему (for none can be equal with him)».4
Однако, подобно Брактону, Финч предостерегает короля от тирании, применяя любопытную метафору: «Но всегда должно помнить, что королевская прерогатива не должна граничить с несправедливостью, поскольку это вытекает из оснований общего права, как палец исходит от руки, несмотря на различие в форме (как голова и тело не могут находиться в одной пропорции); однако если провести параллель, мы увидим, что закон наличествует во всех делах и поступках короля … и что для всех существует одно единственное право: только общее право … , которое притягивает все планеты».5 Также в трактате Генри Финча находит отражение известная и активно обсуждаемая английскими правоведами доктрина «двух тел короля». Автор утверждает: «… король может обладать двумя качествами: телом естественным (которое он получил от своих предков, которое ценно для него и его наследников, и которое он сохраняет, независимо от отречения или удаления от престола) и тело политическое, которое он может приобрести для себя или своих преемников – королей Англии или для себя и своих наследников».6
Вообще, в отношении сущности и происхождения королевской власти большинство мыслителей 17 в. объединяет приверженность божественной теории. Однако следует помнить, что это «божественное право» имеет очень мало общего с былыми представлениями о монархе, обладавшем немалым списком «божественных обязанностей», но едва ли пытавшемся провозгласить собственную волю высшим мерилом истины на подвластной ему территории. Как пишет Хокарт, «принято думать, что теория «Божественного права» в том виде, в каком ее придерживались радикальные сторонники в XVII в., была последним всплеском Средневековья. Однако в действительности все наоборот: это было первое пробное выступление современного духа».1 В древних обществах подданные подчинялись царю на определенных условиях и требовали от него многого, иногда – слишком многого и даже невозможного, а при несоответствии монарха завышенным ожиданиям просто тем или иным способом избавлялись от него. Правовыми и религиозными нормами это не только дозволялось, но даже предписывалось. Разумеется, и абсолютистские монархии знали немало дворцовых переворотов, но совершались они, как и прочие акты абсолютистского правления, по воле, если не сказать прихоти человеческого разума, а не по продиктованной свыше необходимости.
О божественном происхождении королевской власти, о божественной монархии, о короле как наместнике Бога на земле часто говорилось и на заседаниях английского парламента на протяжении XVI и первой половины XVII вв. Однако при этом подчеркивалось, что король не может управлять произвольно, не ограничивая себя никакими рамками, а скорее королю напоминалось о его священных и почетных обязанностях. Бог не дает королю право творить произвол и оправдывать при этом любые свои действия. Бог представлялся в качестве всемогущего создателя и господина вселенной и королю надлежит верить в него и служить ему. Великобританию и сегодня можно назвать страной с крепкими монархическими традициями. Для британцев Корона – центр единства Империи, а Суверен – центральная фигура преданности для всех стран Империи, без которой Британское королевство стало бы рядом отдельных государств.
Список литературы Воззрения на происхождение права и природу королевской власти Генри Финча (по трактату «Право, или рассуждения о нем»)
- Finch.H. Law, or a Discourse thereof. New Jork, 1759. P. 1, Р. 4-5
- Цицерон М.Т. Диалоги. О государстве. О законах. (пер. с лат.)/Изд. Подг. Веселовский И.Н., Горенштейн В.О., Утченко С.Л. М.: Наука, 1966. С. 21, С.29
- Hocart А. Kings and Councillors. An Essay in the Comparative Anatomy of Human Society. Cairo, 1936 (переиздание -Chicago-London, 1970). Р. 151.