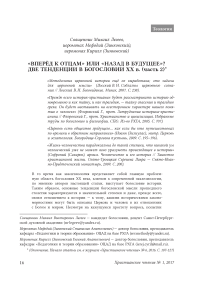«Вперёд к отцам» или «назад в будущее»? Две тенденции в богословии XX в. (часть 2)
Автор: Легеев Михаил Викторович, Зинковский Мефодий, Зинковский Кирилл
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 1 (72), 2017 года.
Бесплатный доступ
В то время как экклезиология представляет собой главную проблемную область богословия XX века, ключом к современной экклезиологии, по мнению авторов настоящей статьи, выступает богословие истории. Таким образом, основные тенденции богословской мысли прошедшего столетия характеризуются в значительной степени и даже, прежде всего, своим отношением к истории - к тому, какими историческими закономерностями могут быть описаны Церковь и человек в их отношениях с Богом и миром. Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, попытки своего, оригинального ответа на него были даны ключевыми направлениями мысли и виднейшими богословами. Диаметрально противоположные акценты при ответе на этот вопрос, обозначенные такими течениями как «неопатристический синтез» и «евхаристическая экклезиология», находят попытки их сближения, объединения и примирения у таких богословов как протопресвитер Иоанн Мейендорф и архимандрит Софроний(Сахаров), открывая возможность для создания «догматического языка экклезиологии» в рамках строгих понятий догматической мысли.
Единая церковь, община, богословие истории, историософия, неопатристический синтез, евхаристическая экклезиология, эсхатология, предание, развитие богословия
Короткий адрес: https://sciup.org/140190258
IDR: 140190258
Текст научной статьи «Вперёд к отцам» или «назад в будущее»? Две тенденции в богословии XX в. (часть 2)
-
4. Попытка «примирения сторон»
Попыткой синтезировать оба вышеуказанных подхода (направлений «неопатристического синтеза» и «евхаристической экклезио-логии»), на наш взгляд, можно считать богословие протопресвитера Иоанна Мейендорфа — замечательного наследника представителей не-опатристического синтеза, испытавшего на себе вместе с тем также и определенное влияние евхаристической экклезиологии. Следуя во многом за протопр. Николаем Афанасьевым, в частности в утверждении идеи тождества Евхаристии и Церкви, евхаристической общины и единой кафолической Церкви1, он при этом избегает характерных для последнего и евхаристической экклезиологии в целом обвинений Церкви в утере исторической перспективы. Так, следуя за В. Н. Лос-ским, «положительное наследие православной Византии (для) современной Церкви» о. Иоанн видит в «идее неразделимости Божественного и человеческого как в личной, так и в общественной жизни человека»2. Даже признавая некий «духовный изъян» византийского мира («византийцы, как и весь средневековый мир, фактически считали гармонию уже осуществленной… (тогда как) полная гармония невозможна до Парусии»3), он все же полагает, что «в самой глубине религиозного опыта Православия империя не переживалась как „осуществленная эсхатология“»4.
Несмотря на взвешенный подход, интуиции протопр. Иоанна Мейен-дорфа однако не разрешаются в развернутое богословие истории. Почти риторический для о. Иоанна вопрос «Могла ли юстиниановская гармония, то есть, по существу, эсхатологический идеал , получить конкретное осуществление в истории?»5 (подразумевается, что нет!) не получает в его освещении столь однозначного ответа, как это было, например, у отцов Николая Афанасьева и Александра Шмемана. Ведь «неразделимость Божественного и человеческого» уже эсхатологична; и таким образом, примирительная позиция о. Иоанна имеет внутри самой себя непростое к осмыслению богословское противоречие — отрицание и одновременно утверждение эсхатологии внутри самой истории 6.
Ключ к разрешению этого внутреннего противоречия таится в той экклезиологической модели, общие контуры которой мы можем также увидеть у о. Иоанна Мейендорфа. Эта модель — «человек, община, единая Церковь» — представляет собой облик Церкви, являемый в различных масштабах экклезиологического бытия. Так говорит об этом о. Иоанн: «Когда мы говорим, что Церковь кафолична, мы утверждаем свойство или „знак“ Церкви, подлежащий осуществлению :
— в личной жизни каждого христианина,
— в жизни поместной общины , или «церкви»,
-
— и в проявлениях вселенского единства Церкви »7.
«Подлежащее осуществлению» «свойство или „знак“ Церкви» в терминологии протопр. Иоанна есть ничто иное, как малая священная история ипостасных отношений Бога и человека, по-своему осуществляемая в каждом масштабе экклезиологического бытия — в человеке, общине и единой Церкви. Основанием, Источником и вместе с тем Образцом этих отношений, этой истории является земная история общественного служения Христа — от Его крещения и до крестной смерти и воскресения8.
Таким образом, история Церкви представляет собой некий трехмерный процесс промыслительных исторических путей, вписанных друг в друга. Личный путь отдельно взятого человека — человека как церкви — оказывается внутри истории церковной общины, а та, в свою очередь, внутри всеобщей истории. Отдельный человек, взятый в качестве экклезиологической модели, его жизнь, промысел Бога о нем и его личная «эсхатология» могут выступить образами не только исторического пути Церкви, как таковой, но и тех процессов, которые происходят «больше, чем в человеке», но «меньше, чем в единой и всецелой Церкви», т. е. образами процессов, происходящих в тех или иных социумах. Ведь всякий социум способен к воцерковлению, в принципе способен к тому, чтобы составить жизнь общины, чтобы стать соборной частью единой Церкви. Факт личной «эсхатологии» отдельно взятого человека, не совпадающей (или, по крайней мере, не вполне совпадающей) с эсхатологией мира, влечет за собой возможность «эсхатологии» и отдельных социумов9, помещенных внутри всеобщей истории. Отдание греческой Церкви (и вместе и нераздельно с ней — социума) под власть турок или революция 1917 г. в России и последующие события — вот примеры таких частных эсхатологий, а вместе с тем и прообразов будущих апокалиптических событий вселенского масштаба. При этом факт ценности личной малой священной истории отдельного человека дает основания к признанию ценности исторического опыта в «неразделимости Божественного и человеческого… в общественной жизни человека»10 — опыта проникновения социума в церковную жизнь.
Как представляется, именно эта мысль, угадываемая и отчасти выражаемая протопр. Иоанном Мейендорфом, не позволила ему склониться к позиции однозначного отрицания экклезиологического «византийского» опыта.
Избегая чрезмерной акцентуации на прошлом или, напротив, будущем церковного бытия, протопр. Иоанн обращает внимание на двойственный вектор исторического пути Церкви (а также и человека как Церкви и общины как Церкви11). Так, согласно о. Иоанну, кафоличность Церкви
«является заданием , так же как и даром Божиим»12 — путь Церкви есть путь со Христом и одновременно (!) ко Христу13. Такой взгляд порождает многомерность богословия истории, уводит его от соблазна упрощенных схем. Жизненный опыт как отдельно взятого человека, так и отдельной общины есть «хотя бы и частичный опыт, (но) абсолютной истины»14. Идея «частичного опыта абсолютной истины» фиксирует наше внимание не на прошлом или будущем, — но на самом процессе истории, составляющем бытие Церкви 15, а в конечном счете — на ипостасной составляющей экклезиологического бытия.
На примере протопр. Иоанна Мейендорфа, пошедшего в некотором отношении далее своих предшественников, мы приходим к пониманию того, что своеобразный спор неопатристического синтеза и евхаристической экклезиологии оказывается невозможно разрешить без опоры, с одной стороны, на понятийный аппарат догматического богословия, сформированный в IV в. трудами отцов-каппадокийцев, а с другой стороны, на системный анализ святоотеческой антропологии с учетом учения о призвании личности человека к усвоению нетварных энергий16.
Ипостасные границы Церкви способны расти и расширяться за счет как отдельного человека, так и целых социумов, — и сказанное отнюдь не означает подмену понятий: единая Церковь остается единой Церковью, а человек, не бывший прежде церковью, становится человеком как церковью, но, конечно, остается при этом человеком. Становление человека Церковью по ипостасному бытию не устраняет еще «зияние между греховным… миром (внутри самого человека) и миром боже-ственного»17 в нем же, но именно в постепенном взаимопроникновении и гармонизации отношений между этими двумя мирами и состоит собственно промыслительный исторический процесс.
На уровне священной истории отдельного человека сюда хорошо вписывается интуиция Ф. М. Достоевского о том, что ощущение личного «бессмертия, обещая вечную жизнь», парадоксально «крепче связывает человека с землей». Призвание человека к бессмертию оказывается для него «живой жизнью» и «главным источником истины и правильного сознания»18, задавая правильный вектор его истории. Развивая эти мысли по отношению к социуму, Ф. М. Достоевский утверждает, что и «государство» способно в какой-то мере «восходить до Церкви и становится Церковью». Мысль эта, критически отвергаемая, между прочим, даже о. Г. Флоровским19, имеет свое богословское обоснование20.
-
5. Христианский персонализм и богословие истории
С другой стороны к вышеобозначенной проблеме богословия истории подходит еще один выдающийся богослов XX столетия, архимандрит Софроний (Сахаров).
Именно в его трудах христианский персонализм достигает своего максимального напряжения21, интегрируя в богословие истории духовные процессы, происходящие на всех масштабах тварного, воцерковля-емого бытия — от происходящего внутри человека до всецелой истории Церкви в Ее отношении с миром.
«В одной капле воды, говорили древние отцы, заключена та же сущность, которая в океанах. Так, в жизни одной личности может отражаться огромная область из вселенской жизни человечества»22. Эту мысль (о подобии отдельного человека — человечеству) архим. Софроний относит и к истории — даже прежде всего к истории. Но верна и обратная проекция этой связи: подобие истории человечества — истории отдельного человека. Архим. Софроний говорит о «соответствии между историческим бытием человечества и тем, что происходит внутри уверовавших во Христа»23, об «общности своей личной трагедии с великой трагедией всего мира»24. «Историю мира люди мыслят по-разному… для нас же, — утверждает он, — история человечества есть не что иное, как… духовный рост человека от момента его зарождения до момента познания им Творца своего и уподобления Ему через это познание»25.
Но история человека и история человечества не только соотнесены, но и глубоко интегрированы друг в друга. Интеграция истории человека и мира, согласно о. Софронию, есть тот процесс, внутри которого зарождается и вызревает Церковь. Мы — каждый член Тела Христова, — говорит архим. Софроний, — должны сделать себя Церковью, «мы должны жить всечеловеческую жизнь, как нашу персональную»26. Осуществляя этот путь Церкви в самом себе («В молитвах, данных мне Богом, я жил историю мира и человека, как мою собственную»27), архим. Софроний утверждает необходимость этого пути для каждого христианина — утверждает универсальность этой интеграции.
«Весь мир еще находится в периоде созидания: „Отец Мой доныне делает, и Я делаю“ (Ин. 5:17). Сии слова Господа относятся прежде всего к Человеку-человечеству»28. История Церкви, история социума, история человека, история мира — все это есть история человечества, колоссально сложная, но вместе с тем единая внутри своего простирания; она есть поле действия и путь Церкви. Единство Церкви, как таковой (внутри Которой совершают свой путь к совершенному единству отдельные ее члены и части), заданное как семя Христово и взращиваемое Духом Святым, есть при этом достояние всецелой истории, лишь по окончании которой оно, единство, приобретет ипостасную завершенность и полноту29.
Началом этого исторического пути, пронизывающим сам путь и, наконец, венчающим его завершение, является «Всечеловек» Христос. Он есть Первообраз и Основание этого исторического пути, «Он есть воистину мистическая ось мироздания»30. Содержа в Себе всю полноту человеческой и обоженной природы — природы Церкви, Он вместе с тем являет Церкви и образ ее ипостасного бытия, заключенного в историю. Осуществляя этот образ истории в самих себе, как отдельно взятый человек, так и все человечество (взятое не в физической совокупности и, так сказать, в простой сумме ее членов, но в имманентности Церкви миру) идут ко спасению, осуществляют свой путь со Христом и одновременно ко Христу. «Если бы все мы достигали „в меру полного возраста Христова“ (Еф 4:13), то в каждом проявлялся бы Всечеловек»31; для этого и человеку, и человечеству необходимо пройти весь путь Христов — от начала и до конца.
Историческое преемство Христу в человеке и человечестве — этот исторический процесс в изображении архим. Софрония оказывается соответственным эсхатологическому финалу истории — опять же в человеке и человечестве. Так, кенозис Христов, Его самоумаление перед лицом враждебного Ему мира, призван продолжаться и отражаться в кенозисе Церкви «на всех уровнях»32 ее бытия и ее истории — от истории человека до вселенской истории. «Держи ум твой во аде и не отчаивайся»33 — это откровение, данное прп. Силуану Афонскому Христом, призывает к внут-риипотасному кенозису человеческого духа, сходящего со Христом во ад самоотречения. Это «есть величайшее откровение об этом спасительном пути» человека к Богу34. Ключ к глобальным историческим процессам лежит внутри человека — внутри его маленькой священной истории, — утверждает архим. Софроний: «Я увидел, как Господь Иисус погружает меня на дно адово и оттуда возносит до небес… именно таким путем мой дух полнее проникал в исторические и метаисторические измерения человеческого бытия»35.
Таким образом, богословие архим. Софрония (Сахарова) позволило раскрыть богословие истории с принципиально новой точки зрения, когда последнее предстает не просто как попытка интеллектуального осмысления, но как таинственная задача для мистического «проживания» истории человечества в глубоком личном религиозном чувстве, как осуществление великого призвания христианина стремиться обрести полноту ипостасной формы бытия, осмысливать и лично участвовать в историческом узоре промыслительных событий жизни тварного мира36, унаследовать Царство Божие не только как отдельного члена общества, но и как члена соборного тела Христова.
-
6. Заключение
Итак, в настоящей статье мы обозначили основные тенденции и вехи развития богословия истории в XX в. Вклад богословов этого времени в богословие истории принципиален; и это не случайно, ведь именно оно является ключом к экклезиологическим вопросам, поставленным перед церковной мыслью в новейшее время.
И тем не менее возникает вопрос: насколько богословие XX в. в целом ответило на эти назревшие или назревающие экклезиологические вопросы?
Как представляется, его значение состояло прежде всего в том, чтобы расставить «опорные точки» мысли, подготовить почву для такого богословия истории, которое будет способно заключить в себе всякий «масштаб» синергийного взаимодействия и диалога с Богом и друг с другом — от мельчайшего тварного атома человеческого существа до единой и всецелой Церкви и космоса. Значение наследия архим. Софрония (Сахарова) на этом пути, идущего дальше всех своих современников, особенно значительно. Продолжая этот путь и облекая в оболочку догматических формул и строгих понятий опыт своей исторической зрелости и своих постоянно меняющихся отношений с миром, Церковь сможет ответить на все вопросы и противостоять всем искушениям37.