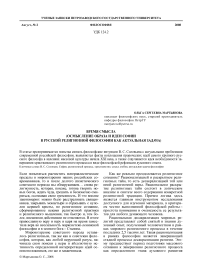Время смысла (осмысление образа и идеи софии в русской религиозной философии как актуальная задача)
Автор: Мартьянова Ольга Сергеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (93), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка связать философские интуиции В. С. Соловьева с актуальными проблемами современной российской философии, выявляются факты воплощения пророческих идей самого крупного русского философа в явлениях массовой культуры начала XXI века, а также озвучивается идея необходимости завершения христианского религиозного процесса в виде философской рефлексии духовного опыта.
В. с. соловьев, софия, религиозный процесс, христианство, смысл любви, актуальная задача философии
Короткий адрес: https://sciup.org/14749428
IDR: 14749428 | УДК: 124.2
Текст научной статьи Время смысла (осмысление образа и идеи софии в русской религиозной философии как актуальная задача)
Если попытаться расчистить материалистические пределы в мировоззрении наших российских современников, то и после долгого атеистического советского периода мы обнаруживаем… снова религиозность, которая, похоже, готова творить новых богов, ждать чуда, грешить и бесконечно смиряться, осознавая свою греховность. И это вполне закономерно: можно было расстреливать священников, закрывать монастыри и сбрасывать с куполов церквей кресты, но религиозное сознание, сформированное веками религиозной практики и религиозного мышления, так быстро и, тем более, внешними действиями не отменяется. В итоге православную веру и веру в царя на время заместила вера во всесильность марксистско-ленинской философии и в земного бога – Сталина.
Мировоззрение советского народа оставалось религиозным, так же как и советская философия, которая, как любой верующий разум, начинала свои поиски с веры в абсолютную истинность определенной интерпретации идей основоположников, ею же и заканчивала.
Как же реально преодолевается религиозное сознание? Рационализацией и раскрытием религиозных тайн, то есть десакрализацией той или иной религиозной веры. Рациональное раскрытие религиозных тайн состоит в логическом анализе и синтезе всего содержания конкретной религиозной традиции. Причем логика здесь является главным инструментом исследования доступного для изучения материала, а критерием честно выполненной философской работы – простота понимания и очевидность ее результатов для любого думающего человека.
Рациональная десакрализация мировых религий представляет собой снятый в знании духовный опыт, полученный человечеством в рамках мирового религиозного процесса в течение последних 2,5 тысячи лет. Такая рационализация в рамках философии является завершающей стадией процесса десакрализации религии. Этому предшествует период подготовки массового сознания к завершению религиозного процесса как определенного этапа духовного развития
человечества. Подготовка ведется в рамках искусства - прежде всего, через трансляцию определенных идей и моделей в популярном кино и популярной литературе.
Очевидно, что в сознании европейцев закреплены христианские религиозные мотивы, поскольку исторически народы Европы постигали духовные глубины и развивались в лоне именно этой мировой религии. В последнее время мы наблюдаем процесс подготовки массового сознания к завершению религиозной истории, когда пересматриваются и совершенно свободно интерпретируются евангельские события.
Вспомним тот общественный резонанс (в одних случаях в мире в целом, в других - только в нашей стране), который вызвали фильмы «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе, «Страсти Христовы» Мэла Гибсона, книги «Евангелие от Иисуса» Жозе Сарамаго, «Пелагия и красный петух» Бориса Акунина, «Код да Винчи» Дэна Брауна, широко освещенная СМИ публикация обнаруженного «Евангелия от Иуды» (причем событие было приурочено к празднику Благовещения 2007 года, видимо, как благая весть).
Религиозный, возвышающий опыт грешника, переступившего последний предел падения и все-таки вымолившего прощение, стал главной темой «Острова» Павла Лунгина, лучшего российского фильма 2006 года.
Параллельно этому процессу десакрализации религии через образцы популярного искусства успешно транслируются (и находят отклик в умах и душах современников) новые, постхристианские пути человека к счастью. Например, в «Алхимике» Паоло Коэльо сообщает совершенно иной, чем христианская весть, посыл человечеству, который можно сформулировать примерно так: «Иди за своей мечтой, не изменяй ей, и только на этом пути ты будешь счастлив, богат и не одинок». Сравните с тем, какую мысль транслирует христианство через подвиг Иисуса: «Услышь голос Отца в своем сердце, иди за ним и будь готов потерять на этом пути все - свои мечты, молодость, счастье и даже жизнь». Как Иисус.
По сути, сегодня происходит смена модели жертвенного служения высшему идеалу на модель счастливого земного бытия через жертву неверием в свой идеал и страхом неудачи на пути его воплощения.
Одновременно в общественном сознании находит свое место какая-то абсолютно «иная» картина устройства мира (вспомним хотя бы успех фильмов «Ночной дозор», «Дневной дозор» по книгам Сергея Лукьяненко, феномен мальчика по имени Гарри Поттер), причем это также бестселлеры книжных прилавков и хиты кинопроката.
И, наконец, о самой главной цели христианского процесса - о научении человека любить. Десакрализацию проходит не только материал, на котором основана христианская религиозность, уходит мистика самой встречи с любо- вью, напряжение от ее непредсказуемости - любовь перестает быть чем-то таинственным и абсолютно неподвластным воле человека. Любовь в целом перестает быть даром Божиим, потому что теперь сам человек может ее сознательно выстраивать, чему учат психологические методики, популярные телепроекты и тренеры на тренингах о том, как найти и удержать любовь.
Потребность в таком технологическом подходе к делу любви предвидел еще Владимир Сергеевич Соловьев. «Первый шаг к успешному решению всякой задачи есть сознательная и верная ее постановка; но задача любви никогда сознательно не ставилась, а потому и никогда не решалась как следует. На любовь смотрели и смотрят только как на данный факт, как на состояние, "нормальное для одних, болезненное для других", которое переживается человеком, но ни к чему его не обязывает; правда, сюда привязываются две задачи: физиологического обладания любимым лицом и житейского с ним союза, - из них последнее налагает некоторые обязанно сти, - но тут уже дело подчиняется законам животной природы, с одной стороны, и законам гражданского общежития - с другой, а любовь, с начала и до конца предоставленная самой себе, исчезает как мираж. Конечно, прежде всего, любовь есть факт природы (или дар Божий), независимо от нас возникающий естественный процесс; но отсюда не следует, что мы не могли и не должны были сознательно к нему относиться и самодеятельно направлять этот естественный процесс к высшим целям» [1].
«...Без действия сознательного человеческого духа Божия искра гаснет, и обманутая природа создает новые поколения сынов человеческих для обманутых надежд» [2], - продолжает свою мысль о строительстве любви Соловьев.
Пространство и время любви для Соловьева в его земной жизни не совпало, и поэтому он стал певцом Вечной женственности, которая явилась ему как София.
Следующие сто лет пространство и время постепенно уплотнялись до степени, достаточной для того, чтобы многие могли встретить идеальную любовь здесь и сейчас. По сути, если прочитать не только тексты Соловьева, но его жизнь в целом как текст, то обретение своей идеальной, но одновременно абсолютно реальной, воплощенной в земном мире любви - это его завет нам, тем, кто читает и берет что-то для себя из его длящегося уже в духе бытия, и тем, кто его не читает, а думает, любит, просто живет после него.
Пятая информационная революция, Интернет, телевидение уплотнили пространство и время, создали невозможные сто лет назад коммуникативные каналы, и огромное число потенциальных половинок, которые раньше никогда бы не узнали о существовании друг друга, теперь могут встретиться! Найти свою любовь, быть рядом с теми, кого любишь, теперь гораздо легче, чем 100 лет назад. И это все-таки победа над непроницаемостью пространства и времени, препятствующей, по Соловьеву, воплощению любви.
У В. С. Соловьева о роли пространства и времени в деле любви говорится так: «Главное свойство этого вещественного бытия есть двойная непроницаемость: 1) непроницаемость во времени, в силу которой всякий последующий момент бытия не сохраняет в себе предыдущего, а исключает или вытесняет его собою из существования, так что все новое в среде вещества происходит на счет прежнего или в ущерб ему, и 2) непроницаемость в пространстве , в силу которой две части вещества (два тела) не могут занимать зараз одного и того же места, то есть одной и той же части пространства, а необходимо вытесняют друг друга. Таким образом, то, что лежит в основе нашего мира, есть бытие в состоянии распадения , бытие раздробленное на исключающие друг друга части и моменты. Вот какую глубокую почву и какую широкую основу должны мы принять для того рокового разделения существ, в котором все бедствия и нашей личной жизни. Победить эту двойную непроницаемость тел и явлений, сделать внешнюю реальную среду сообразною внутреннему всеединству идеи - вот задача мирового процесса, столь же простая в общем понятии, сколько сложная и трудная в конкретном осуществлении» [3].
Как же преодолевается пространственновременная непроницаемость по Соловьеву? «По мере того, как всеединая идея действительно осуществляется через укрепление и усовершенствование своих индивидуально-человеческих элементов, необходимо ослабевают и сглаживаются формы ложного разделения или непроницаемости существ в пространстве и времени. Но для полного их упразднения и для окончательного увековечивания всех индивидуальностей, не только настоящих, но и прошедших, нужно, чтобы процесс интеграции перешел за пределы жизни социальной или собственно человеческой и включил в себя сферу ко смическую, из которой он вышел» [4]. Телевизионный сигнал передается через спутник, который местом своего бытия имеет... космос. Так замыкается круг... Круг воплощения мысли.
Появление новой философской системы может сыграть роль переключателя в этом процессе перехода от религиозного сознания к пострелигиозному в результате снятия в этой новой философской системе духовного опыта, приобретенного человечеством в мировых религиях, и вербализации уже работающих духовных оснований пострелигиозного мира. Эта философская работа нужна как прочный интеллектуальный фундамент для решения человеком и человечеством насущных проблем и продвижения вперед. Во время выполнения этой работы и после нее в сознании современников, возможно, появится тот самый «образ будущего», который так необходим человечеству.
Мифологический и художественный образ, идея Софии у В. С. Соловьева и у русских со-фиологов - это предчувствие нового философского синтеза, который возможен, необходим и обязателен после христианства. София как Премудрость Божия, мысль Бога о мире - это задуманная Богом модель устройства нашего мира. Но узнать этот замысел невозможно, не прожив христианства, не исчерпав и не завершив его. Мысль обнаруживает себя в слове, то есть замысел может и должен быть вербализован, но, опять же, только после выполнения духовных задач христианства, которое ведет к познанию Премудрости Божией, слово страхует от преждевременной, недостаточно христианской мудрости. О преграде на пути к познанию Софии мы узнаем уже у гностиков. И этой преградой становится христианский крест.
Яркий пример отчаяния ума перед чувством грядущей Софии-мудрости в русской религиозной философии представляет гностическая поэма Л. Карсавина, в которой автор ведет разговор с гностиком Валентином и с духом самой Софии. «Нерушимо молчанье твое - молчишь, Полнота Всеединой Божественной Жизни. Неизреченное, как изреку я тебя, когда и во мне ты молчишь, в глубине, в пучине твоей, где с тобой я одно? Но как же без слов, молчанием чтить смогу я тебя и тебя песнословить, если дух мой исходит любовью к тебе, если хочет и должен твое сокровенное имя изречь?» [5] София здесь - Бездна-Молчание и Истина-Ум, о гнозисе молит автор: «И священную тайну пути Я открою, назвав Гносисом». Но он не приходит -вместе с Софией встречается Предел: «Не прекращалась тоска Софии: неустанно стремилась она; и всегда и везде встречала Предел, его же не в силах была превозмочь». Этот Предел ставил Крест: «И стремленье, не завершаясь, оставалось стремленьем, из себя изойти не могло и, как птица безумная, билось о Крест, стеная...» Крест христианский, Его крест, в нем же автор (вместе с Софией!) чувствовал и спасение для нее, исчезающей в «грубом веществе этого мира»: «Слезы Софии о Милом его орошали нежною влагой. Улыбка ее при воспоминаньи о Нем станови-лася светом. <^> В вечном исканьи образует себя Ахамот, пытаясь вспомнить Того, кто дал ей бытие, кто ей на Кресте явился» [6].
Русские философы так же, как и более ранние певцы Софии - гно стики, сталкиваются с Пределом, преградой на пути познания Софии-мудрости, содержащей какую-то искомую истину. Этот Предел ассоциируется с Крестом - символом христианства, а снимается - соединением с Сыном Божиим, то есть выполнением главной задачи христианства. Крест, на котором распинается во времени Христос и который закрывает софийное знание о мире, оказался там же, на том же самом месте и для раннехристианских гностиков, и через 19 веков после начала христиан -ства для русских софиологов. Почему?
К обретению нового, «истинного» знания о мире, к новой картине мира, «нарисованной еще в проекте его создания Софией-художницей под руководством Бога», ведут пути христианства. Это же подсказывает и появившееся до христианства слово «философия» – к мудрости, софии, ведет любовь. Когда у человечества будет достаточно любви (а цель христианства – научить людей большей любви к Богу и друг к другу), тогда оно получит доступ ко всей мудрости мира, то есть к софии. Любовь, предшествующая знанию, играет здесь роль страховочного средства от использования этого нового, более истинного, а значит, обладающего большей деятельной силой знания во зло. К софии ведет любовь, бескорыстный искренний интерес к познанию, и без достижения определенного качества любви до софии не дойти.
У русских философов допуска к софии как к знанию об устройстве нашего мира качественно нового уровня, очевидно, пока не было. Но было стремление, было предчувствие близкого завершения христианской истории, предчувствие грядущего обретения этого знания миром. И софия-знание превратилась в Софию с большой буквы, Софию-личность, а любовь к знанию выразилась в любви к Софии – Вечной женственности. Художественность описаний софийных чувств (как и сами софийные переживания) была призвана компенсировать недостаток любви христианской, полнота которой автоматически дает допуск к пониманию «божественного замысла о мире», что и есть софия-знание-мудрость.
О творческой эволюции В. С. Соловьева от учения о Софии к собственно попытке «софий-ной философии» (термин «софийная философия» обосновывается Г. Г. Майоровым [7]) говорит С. С. Хоружий в своей деконструкции философского наследия В. С. Соловьева [8]. (Вообще статья С. С. Хоружего, написанная на столетие со дня смерти В. С. Соловьева, с моей точки зрения, предваряет третий этап во втором обретении русской религиозной философии: середина 80-х – начало 90-х годов XX века связаны с опытом первого узнавания русской религиозной философии («оказывается, у нас есть своя философия!»), далее последовало десятилетие углубления в русскую философию, ее более или менее подробное изучение, а теперь логичным продолжением видится начало этапа критического – анализа и деконструкции наследия русской религиозной философии.)
В основе софийного опыта В. С. Соловьева (и большинства других софиологов) лежит, как известно, опыт мистический, но этот опыт, по мнению С. С. Хоружего, требует более пристального анализа, который он и проводит. В результате С. С. Хоружий приходит к следующему выводу: «Как опытный феномен, софийная мистика Соловьева принадлежит к маргинальной визионерской линии, в корне расходящейся и с православной исихастской традицией, и со всей христианской церковной мистикой… Однако на протяжении пути Соловьева лишь свойства самого опыта остаются неизменными, тогда как в претворении опыта происходит огромное развитие» [9]. Начальный схематизм в объяснении сущности Софии превращается в философию: «Ранняя схематически-гностическая транскрипция опыта очень скоро сменяется другой, и эта смена - принципиальный рубеж: здесь происходит рождение философа» [10].
Философия Соловьева своими истоками, по мысли С. С. Хоружего, имеет встречу Софии и всеединства: философская интуиция всеединства и софийное чувство породили философскую систему, которая вывела русскую философию на новый уровень. София при этом стала только одним из вариантов, репрезентацией идеи всеединства. С. С. Хоружий видит финальный смысл поисков адекватного философского выражения мистического опыта переживания Софии в отказе от разработки учения о Софии («…им полностью оставляется и само софиоло-гическое направление - во всем его богатейшем творчестве 1890-х годов нет уже никаких софио-логических построений и спекуляций» [11]). При этом отказ от софиологических попыток не означал отказа от изначального софийного опыта: наоборот, пишет С. С. Хоружий, этот отказ был вызван стремлением более адекватно выразить этот опыт в философии. Но честность мыслителя привела В. С. Соловьева к отказу развивать софиологию.
Почему же В. С. Соловьеву не удалось найти устраивающее его философское объяснение Софии? Причина этому, как ее понимает С. С. Хоружий, неотрефлексированный, неочищенный, не выверенный четкими критериями мистический опыт, который и не позволил философу создать достойную софийных предчувствий философию.
С. С. Хоружий называет В. С. Соловьева в период попыток объяснить Софию тео-софом (и в буквальном смысле тоже), то есть тем, кто делает Софию богом, обожествляет ее. На новом этапе он больше уже не тео-соф, а только один из любящих ее, то есть фило-соф. Далее С. С. Хоружий высказывает очень важную мысль: «Одновременно он (В. С. Соловьев. – О. М.) отбрасывает и теософский способ философствования. Разрыв с теософией означает разрыв с великими синтезами как внешними идеологическими заданиями, вменяемыми мысли, – и мысль, освободившись, наконец, обращается к себе и углубляется в себя» [12] (подчеркивание наше. – О. М.). Идея великого синтеза как внешнее идеологическое задание для мысли была уловлена умом самого крупного русского философа в виде идеи Софии: действительно, образ и мифологема Софии, со-фийная мистика уже встречались в истории, и Соловьев знакомился с текстами своих предшественников в начале своего творчества. Тогда же дух Софии вышел на прямой контакт с философски одаренным юношей, увлеченным этой темой, позвав на встречу в Египет. В результате появилась софиология – накануне XX века София воплотилась в комплекс идей, сама превратившись в идею.
Таким образом, и идея Софии, и идея всеединства, и обожествление Софии, и софиоло-гия – все это оттенки предчувствия нового великого философского синтеза, который каким-то образом связан с воплощенным христианством. У русских философов это выразилось в надежде на обновление православия. Чтобы София вновь вернулась к своему изначально заданному смыслу софии-знания-мудрости, нужно завершить христианский процесс, то есть пройти путь познания «фило-», любви, который является единственным допуском к «-софии», мудрому знанию. Вместо части «фило», вместо разрешающего доступ к софийному знанию воплощения христианской любви, в русской философии появляется София с заглавной буквы, софийное знание получает имя, продолжая традицию своего мифологического бытия.
С. С. Хоружий косвенно подтверждает мысль о непрожитом христианстве как о причине появления учения о Софии вместо самого софийного знания, когда связывает недостаточную чистоту мистического опыта В. С. Соловьева с его выпадением из традиций православного исихазма и христианской церковной мистики в целом. Поэтому можно предположить, что появление образа-идеи Софии в русской философии на рубеже веков предсказывало близкое окончание христианского процесса, но еще не было его окончанием.
Недостаточность христианской любви, не позволившая Соловьеву сделать «великий синтез», не была лишь характеристикой его личности как «несовершенного христианина» – это была недостаточность христианской любви в целом, недостаточность, характерная для всех современников, для единого духовного организма невидимой христианской церкви. Об этом пишет и В. С. Соловьев: «Единство социального организма действительно сосуществует с каждым из его индивидуальных членов, имеет бытие не только в нем и через него, но и для него, находится с ним в определенной связи и отношении: общественная и индивидуальная жизнь со всех сторон взаимно проникают друг в друга. Следовательно, мы имеем здесь гораздо больший образ воплощения всеединой идеи, нежели в организме физическом. Вместе с тем здесь начинается извнутри (из сознания) процесс интеграции во времени (или против времени)» [13]. И далее уже кратко: «…интеграция жизни индивидуальной необходимо требует такой же интеграции в сферах жизни общественной и всемирной» [14]. (Как здесь не вспомнить о пятой – компьютерной, завершенной в Интернете – информационной революции?!)
Мир и люди не были готовы тогда открыть софию как новую модель понимания мира, но приближение этого нового знания витало в воздухе. И русские религиозные философы выразили это предчувствие в учении о Софии. София вдохновила тогда многих. Идея «великого синтеза» приближалась.
Список литературы Время смысла (осмысление образа и идеи софии в русской религиозной философии как актуальная задача)
- Соловьев В. С. Смысл любви: Избранные произведения. М.: Современник, 1991. С. 146-147.
- Соловьев В. С. Смысл любви. C. 152.
- Соловьев В. С. Смысл любви. C. 175.
- Соловьев В. С. Смысл любви. C. 180-181.
- Карсавин Л. София земная и горняя (Неизданное гностическое сочинение)//Вопросы философии. 1991. № 9. С. 176.
- Карсавин Л.София земная и горняя. C. 176.
- Майоров Г. Г.Философия как искание абсолюта. М.: Едиториал УРСС, 2004. 416 с.
- Хоружий С. Наследие Владимира Соловьева: сто лет спустя (К 100-летию со дня кончины Владимира Соловьева)//Журнал Московской Патриархии. 2000. № 11. С. 67-84.
- Хоружий С. Наследие Владимира Соловьева. С. 76.
- Хоружий С. Наследие Владимира Соловьева. С.76.
- Хоружий С.Наследие Владимира Соловьева. С. 80.
- Хоружий С. Наследие Владимира Соловьева. С. 69-84.
- Соловьев В. С. Смысл любви. С. 178.
- Соловьев В. С. Смысл любви. С. 179.