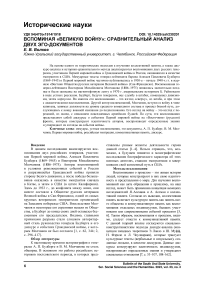Вспоминая «великую войну»: сравнительный анализ двух эго-документов
Бесплатный доступ
На основе одного из теоретических подходов к изучению коллективной памяти, а также дискурс-анализа и историко-сравнительного метода анализируются воспоминания двух русских генералов, участников Первой мировой войны и Гражданской войны в России, оказавшихся в качестве эмигрантов в США. Мемуарные тексты генерал-лейтенанта барона Алексея Павловича Будберга (1869-1945) о Первой мировой войне частично публиковались в 1930-е - начале 1940-х гг. в журнале «Вестник Общества русских ветеранов Великой войны» (Сан-Франциско). Воспоминания генерал-лейтенанта Викторина Михайловича Молчанова (1886-1975) появились значительно позднее и были записаны на магнитофонную ленту в 1970 г. американским историком Б. Раймондом в виде устных рассказов. Будберг, будучи генералом, нес службу в штабах, командовал дивизиями, затем корпусом. Во многом его воспоминания - это взгляд «сверху», из штаба, и при этом с дидактическими наставлениями. Другой автор воспоминаний, Молчанов, вступил в войну в чине капитана, занимал должности на уровне среднего командного состава и прошел боевой путь, дослужившись к концу военной кампании до подполковника. Его взгляд на войну - это взгляд с передовой, из окопа, с описанием повседневных армейских будней. По сути, эти воспоминания представляют собой дискурсы о событиях Первой мировой войны на «Восточном» (русском) фронте, которые конструируют идентичность авторов, воспроизводят определенные знания и утверждают их взгляды на события войны.
Мемуары, устные воспоминания, эго-документы, а. п. будберг, в. м. молчанов, первая мировая война, российская эмиграция, коммуникативная память, дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/147240377
IDR: 147240377 | УДК: 94(470)«1914/1918 | DOI: 10.14529/ssh230201
Текст научной статьи Вспоминая «великую войну»: сравнительный анализ двух эго-документов
В данном исследовании анализируются воспоминания двух российских генералов, участников Первой мировой войны, Алексея Павловича Будберга (1869–1945) и Викторина Михайловича Молчанова (1886–1975). Авторы воспоминаний в условиях революционных событий в России и разразившейся Гражданской войны приняли сторону Белого движения, а после победы большевиков оказались в качестве эмигрантов сначала в Китае, а затем в США (в штате Калифорния). Здесь до 1932 г., до конфликта между ними, они вместе состояли в Обществе русских ветеранов Великой войны в Сан-Франциско, одной из самых крупных ветеранских эмигрантских организаций на Западном побережье США. Впоследствии Молчанов и некоторые его соратники вышли из Общества, а Будберг до конца своих дней оставался бессменным его председателем. Видимо, главными причинами разрыва стали слишком авторитарный стиль руководства генерала Будберга и его дискурс о событиях Гражданской войны, с которым Молчанов не был согласен [1, с. 62, 344; 2, с. 396–417].
Обзор литературы
К настоящему времени историография о генералах А. П. Будберге и В. М. Молчанове не столь обширна. В основном это работы российских историков постсоветского периода, в которых пред- ставлены разные аспекты деятельности героев данной статьи [1–4]. Нельзя отрицать, что, возможно, в будущем появятся и монографические исследования биографического характера об этих военных деятелях, ставших эмигрантами и завершивших свой жизненный путь в США.
Методы исследования
Воспоминания о прошлом – это живая история людей, которые конструируют в них свою идентичность и представления о мире. Для изучения воспоминаний как акта обращения к прошлому, на наш взгляд, может быть применима концепция немецких исследователей Я. Ассмана и А. Ассман о коллективной памяти. Согласно их выводам, коллективная память включает культурную память как память всего общества и коммуникативную память как воспоминания отдельных индивидуумов, бывших участниками или современниками событий прошлого [5, 6]. Таким образом, воспоминания о прошлом, видимо, следует отнести к коммуникативной памяти. С данной теорией вполне согласуются социальноконструктивистские подходы дискурс-анализа (концепции западных теоретиков Э. Лакло и Ш. Муфф, Н. Фэркло и Л. Чоулиараки), которые трактуют культурные тексты (вербальные и визуальные), созданные людьми, в качестве дискурсов. Данные дискурсы конструируют идентичность индивидуумов, воспроизводят определенные знания и утверждают социальные отношения [7, с. 53–107, 108–162].
Результаты и дискуссия
Обратимся к мемуарам А. П. Будберга. С точки зрения современной классификации воспоминаний как источников личного происхождения или эго-документов повествование Будберга можно отнести к «мемуарам-современным историям» [8, с. 257–259], поскольку эти воспоминания нацелены не на реконструкцию и осмысление жизни автора, а на переломные и «великие» события, участником которых он являлся. После службы на Дальнем Востоке Будбергу довелось участвовать в Первой мировой войне сначала в качестве генерала-квартирмейстера штаба 10-й армии (август – декабрь 1914 г.), затем начальника штаба 1-й и 10-й армий (декабрь 1914 г. – февраль 1915 г.). После отпуска по болезни он оказался непосредственно на фронте и с августа 1915 г. вступил в должность начальника 40-й пехотной дивизии в составе IV армейского корпуса 1-й армии. Через два с половиной месяца, в октябре 1915 г., Будберг стал начальником 70-й дивизии (в составе XIV армейского корпуса 5-й армии). Затем, в апреле 1917 г., он возглавил XIV армейский корпус и позже с этой должности ушел в отставку. Таким образом, в период Первой мировой войны ему пришлось командовать различными штабными структурами и войсковыми соединениями в составе Западного, Северо-Западного и Северного фронтов. В январе 1918 г., уже после прихода к власти большевиков, он с семьей выехал из Петрограда на Дальний Восток, некоторое время даже жил в Японии, а затем примкнул к антибольшевистскому движению. С мая по октябрь 1919 г. фактически исполнял обязанности военного министра в правительстве А. В. Колчака. В 1920 г. эмигрировал сначала в Японию, затем в Китай, а в апреле 1921 г. перебрался в США.
Свои мемуары Будберг начал создавать в начале 1930-х годов. Накануне двадцатилетней годовщины Первой мировой войны в журнале «Вестник Общества русских ветеранов Великой войны» появились их отдельные части под заголовком «Из воспоминаний о войне 1914–1917 гг.». Продолжавшиеся публикации мемуаров выходили вплоть до 1941 г., но полностью так и не были изданы [9].
Всю рукопись своих воспоминаний (свыше 1100 страниц) Будберг передал в Архив Гуве-ровского Института войны революции и мира (Стэнфордский университет, Калифорния, США). В 2014 г. благодаря усилиям научных сотрудников Дома Русского зарубежья имени А. Солженицына свет увидела значительная часть мемуаров Будберга о Первой мировой войне, снабженная фотографиями из личного архива генерала, которые хранились у его потомков, живущих в США [10].
Литературный стиль мемуаров Будберга говорит о его таланте военного писателя. Текст со- стоит из сложных предложений, запоминающихся эпитетов и метафор, иногда встречаются латинские поговорки, немецкие и французские фразы. Язык Будберга – это язык образованного человека с правильным построением фраз и использованием различных специальных военных терминов. В его повествовании угадывается знание военного дела и мастерство владения пером.
Подробное описание событий своего пребывания на фронте, буквально по неделям и месяцам, говорит о том, что генерал был человеком педантичным и, вероятно, вел дневниковые записи, ставшие затем основой для мемуаров. Об этом, кстати, упоминал, находясь в эмиграции в Югославии, сослуживец Будберга генерал В. Е. Флуг в письме, датированном 17 января 1933 г. и адресованном генералу В. В. Чернавину [3, с. 64]. Создавая свой текст на основе дневниковых записей, Будберг также использовал мемуарные публикации других авторов. Так, например, он привлек воспоминания известного немецкого военачальника Э. Людендорфа [11] и записки последнего государственного секретаря Российской империи С. Е. Крыжановского [12].
Вообще, если посмотреть на стиль жизни и службы Будберга, то можно сделать вывод, что этот человек редко расставался с пером и бумагой. Его часто, даже в свободное от службы время, можно было увидеть за письменным столом. Как известно, помимо этих воспоминаний, в 1923–1924 гг. он опубликовал в эмигрантском многотомном издании «Архив русской революции», выходившем в Берлине, свой дневник времен Гражданской войны, который в 1929 г. с купюрами вышел и в СССР. Такая публикация сделала Будберга известным «белогвардейским» мемуаристом [13, 14]. Дневник Будберга, охватывающий время революции и Гражданской войны, был издан в Берлине не полностью. Современный российский исследователь А. В. Ганин в архиве Гуверовского института выявил рукопись завершающей части дневника, которая охватывает период с ноября 1919 г. по февраль 1920 г. и события в Чите, Харбине и Владивостоке [3]. Кроме того, в 1930-е гг. в журнале «Вестник Общества русских ветеранов Великой войны» Будберг опубликовал свои воспоминания о службе на Дальнем Востоке на рубеже XIX–XX столетий [15].
Конечно, как и любой мемуарист, Будберг в воспоминаниях о Первой мировой войне конструировал нарратив, в котором представлял себя зачастую в лучшем свете, как умного, смелого и ответственного человека. Он отмечал, что когда находился на посту начальника дивизии, то часто бывал непосредственно на передовых позициях, среди солдат, знал многих своих офицеров в лицо, был контужен и даже как-то раз чуть не попал в плен. По его утверждению, среди подчиненных он получил уважительное прозвище «окопный генерал». Иногда, видимо, ради объективности он упоминает о некоторых своих недочетах по службе, но не очень подробно и вскользь. В основном его воспоминания носят дидактический и аналитический характер. С одной стороны, он часто поучает и говорит о недостатках в русской армии, которых можно было избежать, если бы командование прислушивалось к мнению образованных и талантливых офицеров (таких как он). Он даже сформулировал несколько положений, составивших так называемый кодекс идеального военачальника. С другой стороны, Будберг пытается вскрыть причины различных негативных явлений в русской армии. И здесь он проявляет себя неплохим аналитиком, недаром в молодости Будберг увлекался математикой и шахматами [10, с. 98, 108, 137–138, 211].
Судя по его поведению, поведению человека, который очень часто писал наверх различные рапорты и проекты по повышению боеспособности армии или устранению в ней отрицательных и вопиющих явлений, он верил в силу слова, которое при поддержке «сверху» может стать реальностью. В мемуарах Будберг выглядит очень активным и деятельным генералом на различных постах, как штабных, так и армейских.
При этом, как человек военный, он ни разу не усомнился в том, что война являлась насущной необходимостью для России. В его мемуарах нет ни слова критики по поводу внешней и внутренней политики Николая II и его министров. Вообще о политических предпочтениях Будберга заходит речь лишь тогда, когда он пишет о февральских событиях 1917 г. в Петрограде, деятельности Временного правительства и затем – партии большевиков. Здесь он выплескивает на страницы своих воспоминаний исключительно негативный эмоциональный заряд.
Главная тема, проходящая красной линией через все воспоминания Будберга, связана с вопросом, почему русская армия оказалась не на высоте и в ходе войны терпела одно поражение за другим. Среди главных причин низкой боеспособности войск барон выделяет следующие. Устаревшие взгляды на современную войну многих представителей высшего командования, их лень и удовлетворенность «очковтирательством», неэффективная деятельность в штабах так называемых «стратегических мальчиков». Например, действия военного министра В. А. Сухомлинова он называет «опереточным руководством». В итоге многие операции разрабатывались бездумно, без учета фронтовых условий, исходя из личных амбиций генералов. В результате войска несли большие и бессмысленные потери. При этом любая инициатива со стороны некоторых младших по чину офицеров пресекалась на корню [10, с. 41– 43, 45, 48, 67, 85, 147].
Вообще Будберг определил два типажа генералов и офицеров русской армии. Во-первых, это люди, безупречно, а порой даже геройски выполнявшие свой служебный долг. Они личным примером поддерживали боевой дух и дисциплину в войсках (например, генералы В. Е. Флуг, И. П. Жилинский, П. А. Плеве, Е. К. Миллер, Е. А. Радкевич, полковники А. Г. Габаев и Г. М. Тих-менев, капитаны Михайлов и Виноградов). Во-вторых, это военные руководители, формально исполнявшие свои обязанности по причине трусости и лени (например, полковник П. Н. Караулов), или явные карьеристы – «моменты» (такие как генерал М. Д. Бонч-Бруевич) [10, с. 52, 55, 58–59, 67–68, 85]. Деятельность известного генерала М. В. Алексеева, начальника штаба Верховного Главнокомандующего, Будберг оценивал невысоко, считая его человеком нерешительным, исполнителем чужой воли, сторонником компромиссов. Генерала А. А. Брусилова он назвал «республиканцем», сорвавшим в 1917 г. с себя погоны и нацепившим на грудь красный бант. Будберг назвал его «ловкачом» и хорошим оратором, приветствовавшим революцию [10, с. 57, 78, 81, 148, 205].
Не все солдаты, по мнению Будберга, были способны умело воевать. Например, всех нижних чинов по физическому состоянию и пригодности к настоящей службе барон делил на хорошо подготовленных, крепких сибиряков и «заморышей» с плохим здоровьем из центральных губерний страны [10, с. 125–126].
Еще одним негативным фактором, согласно вполне обоснованному заявлению Будберга, являлась неэффективная деятельность военной бюрократической машины, плохо справлявшейся со снабжением частей всем необходимым. Например, у фронтовых командиров были на руках устаревшие и неточные «карты-верстовки» местности пятидесятилетней давности. На страницах мемуаров порой предстают зарисовки с полуголодными русскими солдатами, давно не получавшими нормального питания, в оборванном обмундировании с рваными обмотками на ногах. «Начальство думало о лошадях больше, чем о людях и их сбережении», – справедливо заявляет Будберг. В то же время «сверху» много поступало различного рода приказов, инструкций, наставлений. От командиров разных уровней требовали постоянных письменных отчетов. Штабистов Барон презрительно называет «рыцарями стула, чернил и пера». Заслуженные представления к наградам на отличившихся офицеров и солдат зачастую не утверждались. В то же время было много необоснованных награждений штабных чинов, в том числе и родственников высокопоставленных военных [10, с. 43, 47, 51, 55, 64, 69–70, 76, 82–83, 87, 90–91, 97, 135, 164, 167–169].
Еще одним отрицательным фактором, сильно влиявшим на боеспособность войск, по словам Будберга, был низкий профессионализм офицеров военного времени, которые после нескольких месяцев подготовительных курсов получали погоны прапорщиков. Он даже написал два рапорта в Главное управление Генерального штаба. Один рапорт содержал идею о создании нескольких десятков унтер-офицерских учебных батальонов. Будберг предлагал осуществлять на этих курсах подготовку прапорщиков из отличившихся по службе унтер-офицеров. Другой рапорт предусматривал изменить программы ускоренных офицерских курсов: удлинить срок обучения и назначить в качестве руководителей выдающихся военачальников, выпускать юнкеров подпрапорщиками и давать офицерские погоны после приобретенного боевого опыта. Однако данные проекты остались без ответа [10, с. 128–129, 131–132].
Боевой дух многих новоиспеченных офицеров, не соответствовавших необходимым качествам, по утверждению Будберга, был подорван еще в условиях «развращающих течений предвоенного периода русской жизни». К таким явлениям он относит «горьковщину», «арцыбашевщину» и «похабный кинематограф» [10, с. 133]. Здесь вполне ясно проявилось отношение барона к творчеству некоторых русских писателей и кино.
Барон откровенно пишет о случаях мародерства со стороны «солдатни», которая грабила и притесняла гражданское население. Иногда в отношении таких людей применялись расстрелы. Будберг сообщает и о значительном количестве дезертиров в русской армии уже в 1915 г., на второй год войны. В то же время Будберг отмечает, что большая заслуга в поддержании боевого духа и дисциплины в войсках принадлежит ротным командирам и старым унтер-офицерам, фельдфебелям. Именно благодаря им солдаты эффективно действовали в самых экстремальных ситуациях [10, с. 45, 46, 53, 62, 66, 75, 92].
О союзниках по Антанте он отзывается неоднозначно. С одной стороны, они воевали умно и берегли свою живую силу. С другой стороны, союзники широко использовали русскую военную помощь, но сами не очень помогали. На фронте ходило такое шуточное изречение: «Союзники решили вести войну до последнего русского солдата». Однако летом 1917 г., в условиях революционных перемен и политики демократизации в армии, Будберг даже подумывал перейти на службу в войска союзников и предпринял некоторые шаги в данном направлении, но из этой затеи ничего не вышло [10, с. 139, 160, 226, 232].
Образ врага на страницах воспоминаний Буд-берга представлен неконкретно и обобщенно. Автор часто использует просто слово «немцы». В одном месте он, видимо, оговорившись, даже написал «наши немцы», что, видимо, свидетельст- вует об очень уважительном отношении к противнику. При этом не стоит забывать, что сам Будберг имел немецкие корни, и в условиях начавшейся войны, когда некоторые офицеры с немецкими фамилиями, следуя конъюнктуре момента, изменили их на «более русские», Алексей Павлович этого делать не стал.
Будберг отмечал, что германское командование, в отличие от русских генералов, берегло личный состав своих войск. Без предварительной усиленной огневой подготовки немцы никогда не наступали, а ночью вообще не воевали, давая солдатам отдохнуть. Немцев, сидевших в обороне, практически невозможно было застать врасплох, так как их «сторожевая служба неслась очень добросовестно и пунктуально». Они были хорошо оснащены связью, сигнализацией и приборами ночного освещения. Русская авиация по количеству, качеству и вооружению самолетов значительно уступала противнику. Немцы, по словам мемуариста, называли русских летчиков членами «клуба самоубийц». Каждая встреча в воздухе с германскими самолетами (аэропланы «Таубе» и «Фоккер») приводила, как правило, к большим потерям среди русских пилотов [10, с. 48, 61, 97, 153, 169, 170–171].
Тыл немецких войск отличался организованностью и порядком. Почти к самой передовой подводились узкоколейки для регулярного снабжения войск. Многие местные жители и военнопленные трудились на работах по укреплению германских позиций. В то же время, как отмечает Будберг, немецкие солдаты никогда не притесняли гражданское население, «вели себя сдержанно и прилично». Однако реквизиции с их стороны все же производились. Они действовали в этом плане организованно и забирали все необходимое «под постоянной угрозой стального кулака». При этом выдавались квитанции, где указывалось, что оплата населению будет произведена после войны за счет российского правительства [10, с. 144, 76].
Один из экзистенциональных выводов, которой сформулировал Будберг, вспоминая о Первой мировой войне, связан с тем, что с молодости, как человек, выбравший путь офицера, он «привык идеализировать войну и думать, что она должна была возвышать дух». Однако военная реальность оказалось совсем другой, более мрачной, и от его идеалов «остались одни жалкие клочья» [10, с. 96].
Политику демократизации в армии в 1917 г. при Временном правительстве Будберг считал губительной. Такое положение вещей, по его мнению, привело к развалу российских Вооруженных сил. А. Ф. Керенского он называет «честолюбцем», мечтавшим «о славе выше Наполеона», «жрецом красивых и пустых фраз», «опаснейшим Дон Кихотом» и «случайным выкидышем революционной фортуны» [10, с. 207–208, 218, 224]. По своим политическим взглядам барон, судя по его воспоминаниям, оставался монархистом, хотя и был разочарован действиями Романовых в условиях революционного кризиса.
Обратимся к устным автобиографическим рассказам В. М. Молчанова. В отличие от Будбер-га, Молчанов не писал мемуаров. Однако на склоне лет, когда ему было уже 84 года, он оставил устные воспоминания, зафиксированные на магнитофонной ленте историком и социологом Б. Раймондом во время их нескольких встреч и бесед в январе 1970 г. в доме генерала в СанФранциско. Это интервью проводилось в рамках проекта по сбору воспоминаний о революции 1917 г. и русской эмиграции, организованного Центром славянских и восточно-европейских исследований Калифорнийского университета в Беркли. Позднее интервью Молчанова транскрибировали и перевели на английский язык [16]. При этом не все из рассказанного генералом вошло в этот текст. Данные материалы (машинописный текст и магнитофонные записи) хранятся в архиве университета. В 1974 г. Молчанов на основе интервью подготовил несколько публикаций, посвященных периоду Гражданской войны, для русского эмигрантского журнала «Первопоходник» [17]. В 2009 г. полный текст воспоминаний Молчанова, с учетом сохранившейся магнитофонной записи интервью, издали в России [18].
Устные рассказы Молчанова не посвящены какому-либо конкретному историческому событию или периоду, в отличие от мемуаров Будберга. Его биографическое интервью содержит информацию о жизненном пути, разнообразные сведения и размышления о дореволюционной русской армии, Первой мировой и Гражданской войнах, антибольшевистской российской эмиграции. С точки зрения классификации источников личного происхождения воспоминания Молчанова, видимо, можно отнести к «мемуарам-автобиографиям» [8, с. 260–265]. Судя по вопросам, подготовленным Раймондом для бесед с генералом, с точки зрения социологической терминологии это было полуструктурированное интервью, то есть интервью с путеводителем в биографическом его варианте [19, с. 105–106].
Первую мировую войну Молчанов встретил в чине штабс-капитана, находясь, как и Будберг, на военной службе на Дальнем Востоке. Судя по его словам, он по личной инициативе, получив разрешение начальства, уже в сентябре 1914 г. прибыл на фронт. Здесь ему поручили командовать ротой в составе 5-го Сибирского инженерного батальона. Молчанов воевал сначала на ЮгоЗападном фронте против австро-венгерских войск, а затем, с 1915 г. до завершения войны, его часть находилась на Северном фронте в районе Риги. В середине 1916 г. он стал командиром инженерной роты в составе 3-й Сибирской стрелковой дивизии (6-й Сибирский армейский корпус 12-й ар- мии). Зимой 1917 г., уже при советской власти, в чине подполковника его назначили главным инженером корпуса. Молчанов занимался эвакуацией снаряжения и имущества. В феврале 1918 г. в местечке Венден (ныне город Цесис в Латвии), будучи раненным, он попал в плен к немцам. До апреля 1918 г. находился на излечении в немецком госпитале, а затем при намеренном попустительстве германского офицера, начальника гарнизона Вендена, и с помощью местного крестьянина-проводника сумел бежать. В Советской России Молчанов получил от властей официальное уведомление об увольнении из армии и уехал на родину в Елабугу (Вятская губерния). Затем судьба привела его в антибольшевистское движение. Он сделал блестящую военную карьеру, стал полковником, а затем получил два генеральских чина, первый – от Верховного правителя А. В. Колчака, а второй – от генерала Г. М. Семенова. После Гражданской войны первоначально эмигрировал в Китай, а в 1923 г. уехал в США.
Судя по характеру речи, Молчанов не имел аристократических манер. Произносимые им слова выдают в нем человека, говорящего просто и без сложных фраз. Его речь отличается дореволюционной и военной терминологией, что объясняется культурным пространством, в котором он ранее жил. Необходимо заметить, что в интервью иногда проскальзывают термины, выражения и словесные обороты, появившиеся в лексиконе Молчанова за время долгой жизни в США. Поэтому он порой произносит такие слова, как «доллар», «миля», «окей». Это, конечно, свидетельствует о влиянии той культурной среды, в которой он оказался в эмиграции [4, с. 191–192]. Вообще, по свидетельству одного из современников Молчанова из русской эмигрантской диаспоры в Калифорнии, он хотя и говорил по-английски с акцентом, но «его можно было свободно принять за американца», поскольку он проявлял жизненную активность в новой для него англоязычной среде [20, с. 509].
Как и многие авторы воспоминаний, генерал Молчанов в своих рассказах строит собственный образ исключительно в позитивном ключе – человека, который всегда принимает верные решения и совершает правильные поступки. Говоря об отношениях между командованием и подчиненными в царской армии, Молчанов, не скрывая правды, свидетельствует о многочисленных случаях безобразного поведения офицеров, которые притесняли солдат. Поэтому он полагал, что вина за солдатский бунт в 1917 г. лежит и на офицерском корпусе, не сумевшем устранить такие злоупотребления в своих рядах [16, p. 43].
Очень интересны впечатления Молчанова о настроениях среди сослуживцев в начале Первой мировой войны, когда многие из них рвались на фронт, боясь, что все скоро закончится, и они не успеют отличиться и получить награды. Генерал прямо и резко обвиняет командование русской армии, ничего не сделавшее для сохранения офицерского корпуса во время войны. Как и Будберг, Молчанов отмечает слабую подготовку офицеров военного времени, получивших погоны после краткосрочных курсов. Он подчеркивает некомпетентность многих старых генералов, не понимавших условий современной войны. По мнению Молчанова, они применяли старую тактику, что приводило к многочисленным потерям [16, p. 31–32].
Для Молчанова одним из запоминающихся и трагических моментов войны, который, видимо, относится к маю 1915 г., стала немецкая газовая атака. У русских солдат тогда отсутствовали противогазы, и они оказались беззащитны. Молчанов чудом остался жив, так как находился в двухстах метрах от линии фронта и, как и его подчиненные, использовал мокрую тряпку, которой накрыл лицо. В результате газовой атаки только один взвод из четырех в его роте уцелел. Наступление немцев в противогазах удалось отбить. Сам Молчанов, все-таки хвативший хлорина, вскоре оказался в госпитале. Его представили к ордену Святого Георгия 4-й степени, но «наверху» представление не утвердили [16, p. 32–34].
Как и Будберг, Молчанов отмечает плохое питание солдат в русской армии. Так, начиная с 1916 г. нижних чинов стали кормить кашей из чечевицы, от которой у многих болели животы [16, p. 34]. Будберг в своих мемуарах называет данный продукт «неудачным суррогатом интендантского изобретения». Обычно чечевица доходила до армейской кухни незрелой, и приготовленную из нее кашу солдаты зачастую выбрасывали [10, с. 197].
Образ врага у Молчанова разнообразен. Например, австрийцы, по его мнению, воевали плохо. Солдаты-славяне (преимущественно словенцы и хорваты) австрийских войск часто бросали оружие и поднимали руки. Чехи и словаки, по его словам, сражались неплохо и редко сдавались в плен. Немцев, которых Молчанову пришлось наблюдать довольно близко, так как он оказался у них в плену, он оценивал во многом позитивно. Хотя снабжение немецкой армии в 1918 г., как отмечает Молчанов, было очень скудным, но никаких жалоб слышно не было. Все невзгоды «изумительные» немецкие солдаты переносили стойко [16, p. 32, 40, 41].
По мнению Молчанова, русские войска к 1917 г. накопили большой военный опыт, имели отличное оснащение, вооружение и вполне могли продолжать успешные боевые действия. Однако этому помешала революция [16, p. 32]. Молчанов и в 1970 г. называл себя монархистом, подчеркивая тот факт, что в 1917 г. он с недоверием относился к Временному правительству. Генерала Л. Г. Корнилова, служившего этому правительству и арестовавшего царскую семью, Молчанов назвал «предателем» несмотря на то, что впоследствии тот стал одним из вождей Белого движения [16, p. 44]. Однако монархизм генерала на склоне лет не отличался подобострастием и слепой верой в царскую власть. Он говорил о монархии с известной долей критики и подчеркивал многие ошибки, совершенные императором Николаем II и его окружением. Вообще, рассуждая на эту тему, Молчанов не видел среди Романовых достойных людей.
Выводы
Итак, воспоминания двух генералов представляют собой дискурсы о Первой мировой войне. Будберг начал писать свои мемуары о войне во многом по собственной инициативе на основе дневниковых записей. Видимо, среди побудительных причин для написания мемуаров было желание Будберга осмыслить свой военный опыт и ответить на вопрос, почему Россия проиграла войну. Устные биографические рассказы Молчанова, наоборот, во многом инициировались извне. Сам он, видимо, так и не сел бы писать мемуары. Причем в создании его воспоминаний принимал активное участие американский историк и социолог Б. Раймонд, который вел беседы с Молчановым, а затем транскрибировал основные части интервью.
По своей структуре воспоминания Будберга как мемуарный текст построены в строгом хронологическом порядке и более насыщены разными деталями. Устные рассказы Молчанова по вполне понятной причине более эклектичны и менее структурированы в плане подачи информации. С точки зрения лингвистического анализа можно сказать, что Будберг, как выпускник Николаевской академии Генерального штаба, более образован, начитан, его повествование отличается аналитическим стилем и дидактичностью. Устная речь Молчанова довольно проста и неофициальна. Хотя необходимо учитывать, что устная речь, в отличие от письменного текста, конечно, менее четкая и формализованная.
Дискурсы этих генералов во многом сходны. Прежде всего они презентуют себя в качестве энергичных акторов истории, как правило, с положительными качествами. Если у Будберга, все-таки есть небольшая доля самокритики, то у Молчанова такой подход вообще отсутствует. Будберг начал войну в чине генерал-майора и занимал штабные должности, командовал дивизиями, затем – корпусом. Его взгляд на войну – это точка зрения высокопоставленного военного, конечно, лично не ходившего в атаку и не стрелявшего из окопа. Устные повествования Молчанова, встретившего войну в чине штабс-капитана и командовавшего инженерной ротой, представляют собой рассказы армейского офицера среднего звена, это взгляд с передовой, из окопа. Причем воспоминания Будберга целиком посвящены Первой миро- вой войне, а устные рассказы Молчанова носят скорее автобиографический характер, и только небольшая их часть относится к периоду войны.
Авторы воспоминаний презентуют себя в качестве боевых русских офицеров и монархистов, полагавших, что падение царского трона привело Россию к катастрофе. При этом, если Будберг почти не подвергал сомнению политику Николая II, то Молчанов, наоборот, порой произносил критические тирады в его адрес. Кроме того, Будберг позиционирует себя как высокопоставленный дворянин и немецкий барон, в его мемуарах в отношении нижних чинов проскользнуло слово «солдатня», а противника он даже на одной страниц мемуаров обозначил как «наши немцы». В контрасте с ним Молчанов более прост и неаристократичен.
Воспоминания генералов, конечно, воспроизводят знания о Первой мировой войне, в частности, о состоянии русской армии, действиях союзников и противника. Авторы воспоминаний пытаются выявить и обозначить главные причины военных неудач русской армии. Стоит отметить, что их заявления по этому поводу во многом критичны. Возможно, такие суждения были обусловлены и личными качествами Будберга и Молчанова, и страной их проживания, поскольку в США свобода слова считается ключевым и важным атрибутом состояния общества.
Данные дискурсы утверждали и определенные социальные отношения. Если мемуары Буд-берга были рассчитаны преимущественно на «своих», на узкий круг ветеранов, то Молчанов согласился дать интервью в рамках исследовательского университетского проекта, и в данном случае предполагалась более широкая читательская аудитория. В связи с этим стоит отметить, что жизненные стратегии этих двух эмигрантов, оказавшихся в США, существенно отличались. Молчанов стал настоящим американцем. Он живо интересовался окружавшей его действительностью, начал говорить по-английски, устроился на хозяйственную должность в одну из крупных фирм, купил автомобиль, регулярно читал прессу и обсуждал местные проблемы [20, с. 509]. На вопрос, заданный в ходе интервью, хотел бы он вернуться на родину, если в СССР рухнет коммунистический режим, Молчанов ответил отрицательно. Он объяснил это тем, что окажется там «абсолютным чужестранцем» из другого мира [16, p. 131]. Будберг, в отличие от Молчанова, наоборот, в основном пребывал в русскоговорящей эмигрантской среде, активно занимаясь общественной деятельностью, более двадцати лет он возглавлял Общество русских ветеранов Великой войны в Сан-Франциско.
Список литературы Вспоминая «великую войну»: сравнительный анализ двух эго-документов
- Волков, С. В. Энциклопедия Гражданской войны. Белое движение / С. В. Волков. – СПб. ; М., 2003.
- Волков, Е. В. Память о Гражданской вой-не и Общество русских ветеранов в Сан-Франциско / Е. В. Волков // Опыт мировых войн в истории России: сборник статей ; под ред. И. В. Нарского. – Челябинск, 2007. – С. 396–417.
- Ганин, А. В. Дневник барона А. П. Буд-берга как источник по истории гражданской войны на востоке России: новые находки и наблюдения / А. В. Ганин // Гражданская война на востоке Рос-сии: взгляд сквозь документальное наследие ; под ред. Д. И. Петина. – Омск, 2017. – С. 60–66.
- Волков, Е. В. Генерал В. М. Молчанов: голос на магнитофонной ленте / Е. В. Волков // Жизнь в истории: сборник научных статей к 85-летию проф. А. П. Абрамовского ; ред.-сост. Е. А. Калинкина, П. Ф. Назыров, О. Ю. Никоно-ва. – Челябинск, 2009. – С. 188–201.
- Ассман, Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман / пер. с нем. – М., 2004.
- Ассман, А. Длинная тень прошлого: Ме-мориальная культура и историческая политика / А. Ассман ; пер. с нем. – М., 2014.
- Йоргенсен, М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод / М. В. Йоргенсен, Л. Дж. Филлипс ; пер. с англ. – Харьков, 2008.
- Румянцева, М. Ф. Теория истории / М. Ф. Румянцева. – М., 2002.
- Будберг, А. П. Из воспоминаний о Великой войне 1914–1917 гг. / А. П. Будберг // Вестник Общества русских ветеранов Великой войны (Сан-Франциско). – 1934–1941. – № 93–181.
- Будберг, А. П. Воспоминания о войне. 1914–1917 / А. П. Будберг // Военный альбом ге-нерала А. П. Будберга ; сост. И. В. Домнин. – М., 2014. – С. 39–232.
- Ludendorff, E. Meine Kriegserinnerungen 1914–1918 / E. Ludendorff. – Berlin, 1919.
- Воспоминания: из бумаг С. Е. Крыжанов-ского, последнего государственного секретаря Российской империи. – Берлин,1938.
- Будберг, А. П. Дневник / А. П. Будберг // Архив Русской революции. – Берлин, 1923, 1924. – Т. XII. – С. 197–290; Т. XIII. – С. 197–312; Т. ХIV. – С. 225–341; Т. XV. – С. 254–345.
- Будберг, А. Дневник белогвардейца (Кол-чаковская эпопея) / А. Будберг. – Л., 1929.
- Будберг, А. П. Сибирские воспоминания (1895–1904) / А. П. Будберг // Вестник Общества русских ветеранов Великой войны (Сан-Франциско). – 1930–1938. – № 55–149.
- Victorin, M. Moltchanoff: The last White General / M. Victorin // An Interview conducted by B. Raymond. – Berkley: The University of Cali-fornia at Berkley, 1972.
- Молчанов, В. М. Борьба на востоке России и в Сибири / В. М. Молчанов // «Первопоходник (Лос-Анджелес). – 1974. – № 17. – С. 35–42; № 18. – С. 28–38; № 19. – С. 22–31; № 20. – С. 3–13.
- Молчанов, В. М. Последний белый генерал / В. М. Молчанов ; сост. Л. Тремсина. – М., 2009.
- Семенова, В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию / В. В. Семенова. – М., 1998.
- «Русская колония в Калифорнии»: из писем Сергея Павловича Петрова // Россия в эпоху великих потрясений: научный сборник к 50-летию А. С. Кручинина ; сост. А. В. Ганин. – М., 2018. – С. 502–522.