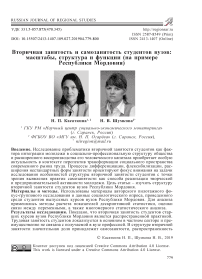Вторичная занятость и самозанятость студентов вузов: масштабы, структура и функции (на примере Республики Мордовия)
Автор: Касаткина Наталья Петровна, Шумкова Наталья Викторовна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социальная структура, социальные институты и процессы
Статья в выпуске: 4 (109) т.27, 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение. Исследование проблематики вторичной занятости студентов как фактора интеграции молодежи в социально-профессиональную структуру общества и расширенного воспроизводства его человеческого капитала приобретает особую актуальность в контексте перспектив трансформации социального пространства современного рынка труда. Процессы дифференциации, флексибилизации, расширения нестандартных форм занятости ориентируют фокус внимания на задачи исследования особенностей структуры вторичной занятости студентов с точки зрения выявления практик самозанятости как способа реализации творческой и предпринимательской активности молодежи. Цель статьи - изучить структуру вторичной занятости студентов вузов Республики Мордовия. Материалы и методы. Использованы материалы авторского пилотажного фокус-группового исследования и данные социологического опроса, проведенного среди студентов выпускных курсов вузов Республики Мордовия. Для анализа применялись методы расчета показателей дескриптивной статистики, оценки связи между переменными, а также многомерного статистического анализа. Результаты исследования. Показано, что вторичная занятость студентов старших курсов вузов Республики Мордовия является распространенной практикой. Трудовая занятость студентов локализуется в основном в частном секторе и преимущественно не связана с получаемой в вузе профессией. В структуре вторичной занятости значительная доля принадлежит самозанятости, распространенность которой составляет около 25 %. Сегмент студенческой самозанятости связан с предоставлением широкого спектра услуг, однако наиболее популярными являются фриланс и репетиторство. Практики самозанятости структурируются по видам деятельности в зависимости от гендерного признака, а также от новизны (традиционности) выполняемого труда. Обсуждение и заключение. Самозанятость способствует адаптации и интеграции студентов на рынке труда и выступает фактором стимуляции миграционных настроений молодежи и неустойчивости профессиональных ориентации. Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его результатов органами власти Республики Мордовия при разработке молодежной политики региона и государственных программ в сфере труда и занятости, оптимизации кадровой политики организаций и ведомств.
Самозанятость, вторичная занятость, трудовая занятость студентов, репетиторство, фриланс, рынок труда
Короткий адрес: https://sciup.org/147222832
IDR: 147222832 | УДК: 331.5-057.875(470.345) | DOI: 10.15507/2413-1407.109.027.201904.779-800
Текст научной статьи Вторичная занятость и самозанятость студентов вузов: масштабы, структура и функции (на примере Республики Мордовия)
Funding. The article was done with the financial support from the Russian Foundation for Basic Research and the Government of the Republic of Mordovia as part of the scientific project ‘Social Space of the Labor Market in the Republic of Mordovia: Youth Self-Employment’ (No. 18-411-130016 r_а).
Введение. Направленность и содержание изменений, происходящих на рынке труда, определяются в том числе стратегиями поведения его субъектов. Наиболее проактивная позиция на рынке труда принадлежит молодежи, которая в силу специфики социального статуса формирует и реализует поливариативные стратегии интеграции в социально-профессиональную структуру общества. В результате возникают и институционализируются новые социальные практики на рынке труда, оформляются его трансформационные тренды.
Возникновение новых видов и форм трудовой деятельности и отношений, усиление флексибилизации и дифференциации рынка труда во многом обусловлены активностью молодежи в воспроизводстве соответствующих социальных практик. Многие исследования выявляют активность представителей этой социально-демографической группы в нестандартной (неполной, временной, удаленной и т. д.) занятости ' .
Многочисленная часть современной молодежи - вузовское студенчество. Причем значение этой социальной группы сложно переоценить ввиду многофункциональности последствий реализации ею профессиональных и трудовых стратегий. В этом контексте одной из наиболее актуальных и в то же время дискуссионных, с исследовательской точки зрения, становится практика вторичной студенческой занятости, возрастание масштабов которой уже не требует доказательств.
В широком смысле вторичная занятость студентов - это добровольная, оплачиваемая трудовая деятельность, осуществляемая в свободное
1 Чередниченко Г. А. Образовательные траектории и профессиональные карьеры (на материалах социологических исследований молодежи). М.: ИС РАН, 2012. 332 с.; Константиновский Д. Л., Вознесенская Е. Д., Чередниченко Г. А. Молодежь России на рубеже XX-XXI веков: образование, труд, социальное самочувствие. М.: ЦСП и М, 2014. 548 с.
У^У - от учебы время [1, c. 177]. Она выполняет ряд функций с эффектами как на микро- (индивидуально-личностном), так и на макроуровне, влияя на функционирование социальных институтов. В первую очередь, отчетливо выражены функции адаптации и интеграции молодежи на рынке труда [1], а также накопления их человеческого, социального и культурного капиталов.
Тенденции расширения масштабов вторичной занятости студентов на фоне интенсификации изменений на рынке труда, нарастания дестандартизации, плюрализации практик занятости способствуют актуализации исследования этого социального явления.
Задача исследования структуры вторичной занятости студентов еще более значима в контексте выявления практик неформальной занятости и самозанятости как проявлений творческой и предпринимательской активности молодежи, реализации ее деятельностного потенциала [1, c. 180].
Таким образом, интерес к исследованию проблематики вторичной занятости студентов вполне очевиден не только в контексте проблем интеграции молодежи в социально-профессиональную структуру общества и расширенного воспроизводства его человеческого капитала, но и перспектив трансформации социального пространства рынка труда.
Цель статьи – выявить структуру и особенности первичных практик экономической активности студенческой молодежи Республики Мордовия, изучить влияние этих практик на эффективность профессионализации в вузе, а также описать существующие стратегии их поведения на региональном рынке труда.
Обзор литературы. Тема вторичной занятости студентов популярна и у зарубежных, и у отечественных авторов. В фокусе внимания публикуемых исследований находятся масштаб распространенности, структура, детерминанты и последствия этой социальной практики.
Пристальный интерес западных социологов к проблемам совмещения работы и обучения приходится на конец 1970-х гг., когда у исследователей появляется возможность анализа результатов когортных лонгитюдных опросов, на больших массивах данных позволяющих наблюдать отсроченные эффекты индивидуальных трудовых и образовательных траекторий2 [2].
В отечественной науке актуализация проблемы вторичной занятости студентов произошла в 1990 гг., когда российские социологи зафиксировали феномен работающего студента и акцентировали внимание на анализе его детерминант, в числе которых – ухудшение социальноэкономического положения учащейся молодежи [3; 4]. Так, по данным Т. Э. Петровой, в середине 1990-х гг. в нашей стране подрабатывали более 70 % студентов (на I курсе - до 40 %, на V курсе - 77 % студентов)3.
Массовизация феномена работающего студента по-прежнему отмечается практически в каждой отечественной публикации. По данным многочисленных исследований, показатель вовлеченности в трудовую деятельность студентов очного отделения за последние десятилетия незначительно колеблется относительно величины, составляющей 70 % [5–8].
Современные зарубежные авторы также единодушны в выводах касательно тенденции к возрастанию масштабов вторичной занятости студентов, которая проявляется не только в показателях доли подрабатывающих, но и в количестве времени, затрачиваемом на работу4.
Рассматривая позитивные и негативные последствия трудовой занятости студентов, большинство западных публикаций актуализируют проблематику влияния вторичной занятости на их академическую успеваемость. Так, К. Каллендер, Дж. Э. Кинг, П. М. Глисон провели исследования, результаты которых показывают, что работа во время учебы отрицательно влияет на академическую успеваемость [9; 10] и повышает вероятность прерывания обучения, однако, при условии его завершения, повышает успешность на рынке труда [11].
Развернувшаяся полемика вокруг того, насколько негативным является влияние вторичной занятости на студента, – одно из существенных отличий в проблематизации рассматриваемого социального феномена в зарубежных и отечественных работах.
В российских публикациях акцент делается в первую очередь на положительных эффектах вторичной занятости студентов [12; 13]. В частности, влияние на профессионализацию и становление профессиональной идентичности студентов анализирует В. А. Кенинг. Согласно его выводам, неоспоримый положительный эффект совмещения учебы и работы имеет трудовая занятость студентов по получаемой специальности: «формируется тип работника, стремящегося к знаниям и проявлениям собственной полезности; трудовая деятельность студентов способствует становлению их профессиональной идентичности, профессиональной социализации и, вероятно, успешному будущему трудоустройству» [14, с. 72]. Его выводы о том, что подработка по специальности неполный день или неполную неделю становится дополнительным каналом
- профессионального обучения, находятся в согласии с результатами наблюдений других исследователей [15; 16]. С этой точки зрения, наименее удачной стратегией студента на рынке трудя является работа полный день не по специальности.
Проблематика мотивов и факторов – наиболее обширный сегмент публикаций, посвященных вторичной занятости студентов [17–19]. Детерминанты рассматриваемого социального явления, представленные в литературе, фактически дифференцируются на внутренние и внешние.
В структуре внутренних доминируют материальные мотивы студентов, которые связаны со стремлением заработать на оплату обучения в вузе и поддержание определенных стандартов потребления и качества жизни, а также с желанием получить опыт работы и конкурентные преимущества на рынке труда [7; 10; 20–22].
К внешним в первую очередь относятся макрофакторы, связанные с функционированием образования. Так, априори воспроизводимое этим институтом социальное неравенство отчетливее проявляется в условиях сокращения финансирования высшего образования. Разного рода материальные факторы выталкивают студентов из низкоресурсных социальных слоев в сферу вторичной занятости. По выводам Р. Хамфри, большинство работающих британских студентов являются выходцами из государственных школ, а не из независимых частных школ [23].
На связь вторичной занятости студентов с негативными процессами в системе высшего образования часто указывают российские исследователи. Так, А. В. Родионова в качестве фактора появления феномена работающего студента отмечает сокращение объема финансирования вузов, которое «ни сейчас, ни в дальнейшем не предполагает содержание студентов за счет государственных дотаций, кроме специально означенных в законе групп населения» [6, c. 83]. С. Ю. Рощин, В. Н. Рудаков, А. Ю. Апокин, М. М. Юдкевич основной причиной вторичной занятости студентов считают низкое качество высшего образования: поскольку «система высшего образования оказывается неспособной обеспечить студентов теми навыками и знаниями, которые являются реально востребованными рынком труда, …многие студенты начинают строить свою карьеру задолго до окончания вуза» [цит. по: 24, с. 106].
К значимым макрофакторам, особенно в российских реалиях, следует отнести трансформацию современного рынка труда, который формирует потребность в студенческом труде и предоставляет студентам возможности для совмещения учебы и работы [7; 25].
Какова же структура вторичной занятости студенческой молодежи? Отвечая на этот вопрос, большинство российских и зарубежных исследователей берут за основу описание основных форм занятости (наемные работники или самозанятые), характера оформления трудовых отношений
(регулируются трудовым договором (контрактом) или нет), сфер деятельности, форм собственности (государственная, частная), регулярности занятости (постоянная, временная, неполный рабочий день) и т. д.
Согласно результатам анализа зарубежных публикаций, проведенного А. Ю. Апокиным и М. М. Юдкевич, студенческая занятость в основном предполагает неквалифицированный труд и практически не связана с будущей профессией [24]. Как правило, студенты вовлечены в сферы обслуживания, туризма и общественного питания. Они подрабатывают на малых предприятиях на условиях неполной занятости.
Структура занятости российских студентов практически не отличается от зарубежной. Для нее характерны преимущественная вовлеченность в неформальные и нестандартные формы (неполный рабочий день, отсутствие трудового договора, непрозрачные условия при найме на работу и пр.), превалирование мало - или неквалифицированного труда, занятость не по специальности (в частном секторе и в сферах торговли, общественного питания, образования и культуры). Об этом свидетельствуют работы Д. Л. Константиновского, Е. Д. Вознесенской5, Г. А. Чередни-ченко6. Отмеченная специфика позволила Ж. Т. Тощенко рассматривать студенческую занятость в контексте процессов прекаризации труда7.
Следует отметить отдельный сегмент российских исследований, посвященный изучению неформальной самозанятости. Согласно данным, самостоятельную занятость выбирает каждый десятый российский студент [25–27]. В. С. Харченко [12; 13], Д. О. Стребков, А. В. Шевчук [28; 29] доказывают, что распространенным видом самозанятости современных российских студентов становится фриланс.
Несмотря на довольно обширный диапазон исследований, в той или иной степени освещающих структуру студенческой вторичной занятости, вопрос о масштабах вовлеченности и структуре неформальной занятости остается недостаточно изученным.
Материалы и методы. Эмпирическая база исследования включает количественные и качественные методы анализа эмпирических данных.
-
1. Материалы авторского пилотажного фокус-группового исследования, 2 этапа которого проведены в феврале - марте 2019 г., количество участников каждого этапа – 6 чел. Критерием отбора участников фокус-группы являлось наличие опыта самозанятости (индивидуальная самозанятость как постоянный источник дохода продолжительностью не
-
2. Данные социологического опроса8, проведенного среди студентов выпускных курсов вузов Республики Мордовия (N = 1 943, март - май 2019 г.). Сплошной опрос студентов проведен методом онлайн анкетирования посредством возможностей сервиса Googlе Forms. В целях обеспечения качества и достоверности результатов опрос координировался администрациями вузов. Для получения данных, репрезентирующих генеральную совокупность, проведен ремонт выборки с использованием процедуры перевзвеса. Обработка и анализ полученной информации проводились с помощью пакета SPSS. Для анализа использовались методы расчета показателей дескриптивной статистики, оценки связи между переменными, а также многомерного статистического анализа. С помощью анкетирования были выявлены масштабы распространенности и структура вторичной занятости студентов вузов Республики Мордовия.
У^У -менее 1 года), возраст от 18 до 35 лет. При анализе полученных данных применялся метод контент-анализа. Исследование методом фокус-групп позволило прояснить мотивацию и причины выбора стратегии самозанятости в молодежной среде.
Результаты исследования. Совмещение учебы и работы - распространенная практика среди студентов старших курсов вузов Республики Мордовия. Более половины студентов (55 %) подрабатывали, причем большинство из них (54 %) – не по получаемой профессии. Только треть опрошенных (29 %) работали по своей будущей специальности, 18 % – как по своей, так и по другой профессии.
Источником рабочих мест для студентов в основном является частный сектор, который обеспечил занятостью 41 % подрабатывающих студентов; почти треть опрошенных (29 %) нашли работу на государственных предприятиях, 6 % - заняты собственным или семейным бизнесом. Довольно масштабной является самозанятость: почти каждый четвертый работавший студент (24 %) отнес себя к этой категории.
Качество вторичной занятости оказывает существенное влияние на социально-профессиональные установки студентов, в первую очередь на степень профессиональной идентификации. В частности, чем ближе содержание труда к получаемой профессии, тем более выражена установка на трудоустройство по ней после окончания вуза. Вторичная занятость, связанная с профессией, не только позитивно влияет на формирование профессиональной идентичности, но и выступает своего рода гарантом трудоустройства, снижает неопределенность, связанную с поиском работы (табл. 1).
Важнейшим эффектом вторичной занятости, связанной с профессией, является закрепляемость молодежи в регионе. Подрабатывавшие по специальности более ориентированы на трудоустройство в пределах Республики Мордовия. Распространенность соответствующих установок в этой группе студентов гораздо выше, чем среди работавших не по профессии (58–77 против 5 %). Последние более настроены на трудоустройство в мегаполисе. Таким образом, работа вне профессиональной области, с одной стороны, благоприятствует формированию у будущего выпускника вуза настроений на выезд за пределы региона, с другой – способствует приобретению им социального опыта на рынке труда, накоплению человеческого капитала и повышению его адаптационных возможностей.
Следующей качественной характеристикой вторичной занятости является ее локализация в формальном или неформальном секторе занятости. В первом случае влияние трудоустройства будет иметь более очевидные позитивные результаты, поскольку регулируется институционально закрепленными нормами. Что касается неформального сектора, то последствия требуют более тщательного анализа.
Практика самозанятости, как наиболее распространенная форма неформальной занятости, является популярной среди студентов. Диапазон видов деятельности широк, однако наиболее масштабными являются заработок в интернете (фриланс) (36 %) и репетиторство (29 %) (табл. 2).
Т а б л и ц а 2. Распределение ответов на вопрос «Использовали ли Вы в период обучения следующие способы дополнительного заработка?», %
T a b l e 2. Distributions of answers to the question ‘Did you use the following methods of making extra money during the training period?’, %
|
Практики самозанятости / Self-employment practices |
N |
Процент ответов / Responses, % |
Процент наблюдений / Observations, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Изготовление кондитерских изделий на заказ / Making confectionery to order |
13 |
1 |
2 |
|
Организация совместных закупок / Organization of joint procurement |
30 |
3 |
4 |
|
Автомобильный сервис / Car service |
47 |
4 |
6 |
|
Рукоделие: шитье, вязание / Needlework: sewing, knitting |
51 |
4 |
7 |
|
Декоративно-прикладное творчество на заказ / Arts and crafts to order |
69 |
6 |
9 |
Окончание табл. 2 / End of table 2
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Курьерские услуги / Courier services |
69 |
6 |
9 |
|
Услуги такси / Taxi services |
70 |
6 |
9 |
|
Фото- и видеосъемка / Photography and videography |
77 |
7 |
10 |
|
Бьюти-услуги / Beauty services |
119 |
10 |
16 |
|
Строительство и ремонт / Construction and repair |
126 |
11 |
17 |
|
Репетиторство / Tutoring |
213 |
19 |
29 |
|
Заработок в Интернете (фриланс) / Earning money online (freelance) |
265 |
23 |
36 |
|
Всего / Total |
1149 |
100 |
155* |
* Сумма ответов по столбцу не равна 100 %, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов / The sum of the responses in the column is not equal to 100 %, since one could select several response options according to the survey methodology.
Часто виды деятельности лежат вне профессиональной сферы, с которой связано получаемое в вузе образование, либо в смежных областях. Так, «заработок в интернете (фриланс)» практикуют не только представители обучающихся по математическим и информационно-технологическим направлениям подготовки (стандартизированный остаток – 4,7), но и студенты, обучающиеся социально-гуманитарным и управленческим профессиям (2,6 и 2,5 соответственно)9.
Однако связь с профессиональной областью все же наблюдается. Репетиторством занимаются преимущественно обучающиеся по социальногуманитарным и педагогическим направлениям (стандартизированные остатки 5,1 и 3,8); бьюти-услуги оказывают будущие медики и работники сферы искусства и культуры (2,0 и 1,7 соответственно). Декоративноприкладное творчество на заказ – область для учащихся по направлениям подготовки «Культура и искусство» (5,9).
Таким образом, виды деятельности дифференцируются в зависимости от уровня специализированности требуемых знаний и навыков. Чем выше специализация, тем чаще она совпадает с получаемой студентом профессией.
Процедура многомерного шкалирования, проведенная с использованием возможностей программного пакета SPSS, позволила выявить особенности структуры студенческой самозанятости. Виды деятельности отчетливо подразделяются на новые и традиционные, женские и мужские (рис. 1).
Самозанятость / Self-employment
|
Бьюти / Beauty о ' Прикладное творчество / Arts and crafts ° Фотография / Photography |
Репетиторство / Tutoring о 1 о Шитье / Sewing Кондитер / Confectioner |
|
Закупки / Procurement Фриланс / Freelance о |
Автосервис / Car service о Курьер / Courier Такси / Taxi Строительство / Construction |
•3 -2 -10 1 2 3
Размерность 1 / Dimension 1
Р и с у н о к. Пространство практик самозанятости
F i g u r e. Space of self-employment practices
Новые/традиционные сферы самозанятости отчетливо дифференцировались в квадрантах, расположенных по вертикали: в правой части находятся традиционные сферы – строительство и ремонт, услуги такси, курьерские услуги, автосервис, шитье, репетиторство; новые – фриланс, бьюти услуги, декоративно-прикладное творчество на заказ, фото-и видеосъемка, совместные закупки, изготовление кондитерских изделий – в левой части.
В квадрантах по горизонтали локализуются преимущественно мужские и женские виды деятельности. Содержание левого верхнего квадранта позволяет сделать вывод о том, что расширение спектра видов деятельности происходит за счет женской самозанятости – студенток, активно включающихся в практики самозанятости.
Композиция представленных на рисунке показателей, где значительно удалены фриланс и репетиторство, демонстрирует в первую очередь сосуществование на рынке труда принципиально разных по содержанию, средствам производства, условиям труда, способам поиска клиентов и коммуникации с ними видов трудовой деятельности.
-
В конечном счете, это свидетельствует о существенной дифференциации неформального рынка труда, где востребованы как классические виды студенческой подработки, так и новые. Поэтому закономерен вывод о том, что самозанятость является продуктом постиндустриальной трансформации рынка труда [30], проявления которой наиболее отчетливы в его неформальной сфере.
Переходя к рассмотрению мотивационной структуры студенческой самозанятости, следует подчеркнуть, что виды деятельности самозанятых несколько отличаются по мотивации. Об этом свидетельствуют данные проведенных в феврале – марте 2019 г. фокусированных интервью с самозанятыми.
Качественное исследование позволило определить, что материальный мотив играет важную роль, однако не всегда становится первопричиной подработок. Часто истоками рассматриваемого способа заработка является хобби: «Началось с того, что мне купили фотоаппарат в 9–10 классе. Тогда он был крутой, все на него смотрели. Тогда я начала снимать... Мне подруги сказали зарабатывать на этом, потому что я и так постоянно фотографирую (студентка, естественно-научное направление подготовки, фотограф); «Люблю рисовать с детства, а фотография – это тоже рисование, но только быстрее... Начинала с пленочных фотоаппаратов, потом были цифровые и зеркальные. Сначала фотографировала животных, потом людей. Однажды друг сказал, что у меня хорошо получается, и можно начать на этом зарабатывать» (студентка, социально-гуманитарное направление, фотограф).
Доминирование материальных мотивов характерно для занимающихся репетиторством: «Стала заниматься репетиторством с конца 10 класса. …В принципе я была еще школьником, но хотелось своих денежных средств и поэтому я решила, почему бы и нет» (студентка, социальногуманитарное направление, репетитор); «Начала заниматься репетиторством в начале 3 курса. Я не думала сначала этим заниматься, а просто хотела какой-то независимости от родителей, не сидеть на шее у них, иметь свои средства» (студентка, социально-гуманитарное направление, репетитор).
Для многих студентов самозанятость не носит жестко вынужденного характера, связанного с необходимостью оплачивать обучение или зарабатывать на самое необходимое. Как правило, студенты проявляют предприимчивость, креативность и используют возможности дополнительного заработка, которые появляются в связи с виртуализацией социальных отношений и ростом сферы услуг.
В связи с этим стоит отметить, что выраженной индивидуально-личностной характеристикой самозанятых студентов является стремление к самообразованию: «Я самоучка. Смотрела видеоролики в интернете, сейчас это всем доступно. Когда есть время, экспериментирую, осваиваю новые техники (студентка, естественно-научное направление, фотограф); «Как-то в инстаграме нашла аккаунт, мне очень понравились сумочки, решила, что хочу такую и могу ее сама связать. Открыла в интернете ролик, посмотрела, подумала, что все легко и понятно. Сходила за пряжей и связала» (студентка, социально-гуманитарное направление, занимается рукоделием на заказ).
Потребности в самообразовании самозанятых студентов обеспечивает интернет, постепенно демонополизирующий функции института формального образования.
Другими ключевыми характеристиками студентов, практикующих самозанятость, являются прагматичность, амбициозность и самостоятельность. Факторный анализ (SPSS, метод главных компонент) детерминант выбора профессии при поступлении в вуз показал, что будущие самозанятые отдавали предпочтенией статусным характеристикам профессии – доходности и престижности (13 % объясненной дисперсии), в то время как их несамозанятые однокурсники строили свой выбор исходя из наличия бюджетных мест и величины проходного балла (12 %). Причем последние прислушивались к рекомендациям старших членов семьи, а самозанятые действовали исходя из собственной информированности о профессии.
Сравнительный анализ студенческих установок на использование тех или иных способов поиска работы выявил принципиальные отличия самозанятых, выражающиеся в замещении ориентации на использование связей, знакомств возможностями, предоставляемыми ресурсами сети Интернет; в выстраивании стратегий организации собственного бизнеса. Спектр предполагаемых способов поиска работы у этой категории студенчества шире и многообразнее, что свидетельствует об адаптиро-ванности к реалиям современного рынка труда.
Таким образом, самозанятость как форма вторичной трудовой занятости студентов выполняет функции приспособления к условиям и потребностям (адаптационную) и встраивания в социально-профессиональную структуру регионального рынка труда (интегративную), однако не способствует повышению профессиональной ориентированности и укреплению профессиональной идентичности студентов, стимулирует их миграционные настроения. Так, большинство реализующих практики самозанятости не планируют после окончания вуза трудоустраиваться по профессии и потенциально ориентированы на выезд за пределы Республики Мордовия.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты и выводы подтверждают тенденции, фиксируемые зарубежными и отечественными исследователями. В частности, показана масштабность вторичной за- нятости студентов и ее структура, воспроизводящая характерные для современного этапа свойства: преимущественно работа в частном секторе и не по специальности.
Функции вторичной занятости студентов-старшекурсников в целом характеризуются как положительные. Однозначен позитивный потенциал этой практики непосредственно на индивидуально-личностном уровне в контексте накопления человеческого капитала и формирования адаптационных стратегий на рынке труда.
На институциональном уровне проявляется амбивалентная роль вторичной занятости: ее последствия имеют позитивный эффект при условии подработок по специальности. Только в этом случае вторичная занятость способствует становлению профессиональной идентичности, и тем самым повышает эффективность института высшего образования. Занятость, не связанная с будущей профессией, напротив, негативно влияет на установку трудоустраиваться по получаемой специальности.
В структуре вторичной занятости студентов выявлен масштабный сегмент практик, лежащих в плоскости неформальной самозанятости. Расширение коммуникации посредством социальных сетей, виртуализация социальных практик стали благоприятным фактором их распространения. Структурно студенческая самозанятость отличается многообразием видов деятельности, имеет выраженные гендерные особенности и часто обусловлена накопленными знаниями, умениями, компетенциями, полученными в рамках как формального образования, так и самообразования.
Полученные результаты исследования позволяют лучше понять механизмы распространения и структуру вторичной занятости студенческой молодежи на региональном рынке труда, а соответственно - более качественно подойти к разработке программы мероприятий по сохранению человеческого капитала региона, сокращению миграционного оттока молодежи.
Список литературы Вторичная занятость и самозанятость студентов вузов: масштабы, структура и функции (на примере Республики Мордовия)
- Дикусарова М. Ю. Вторичная занятость студентов как способ адаптации на рынке труда // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2013. № 3. С. 177-182. URL: http://science.vvsu.ru/scientific-journals/joumal/current/article/ id/2145399147/2013_3_26vtorichnaia_zaniatost (дата обращения: 06.07.2019).
- Carr R. V., Wright J. D., Brody C. J. Effects of High School Work Experience a Decade Later: Evidence From the National Longitudinal Survey // Sociology of Education. 1996. Vol. 69, no. 1. Pp. 66-81. DOI: https://doi.org/10.2307/2112724
- Герчиков В. И. Феномен работающего студента вуза // Социологические исследования. 1999. № 8. С. 87-94.
- Gerchikov V. I. The Phenomenon of the Working College Student // Russian Education & Society. 2000. Vol. 42, issue 6. Pp. 67-84. DOI: https://doi.org/10.2753/ RES 1060-9393420667
- Красова Е. В. Основные черты студенческой занятости в регионах России (на примере Владивостока и других городов) // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2017. Т. 3, № 1. С. 266-285. DOI: https://doi.org/10.21684/2411-7897-2017-3-1-266-285
- Родионова А. В. Трудовая занятость студентов в контексте обучения (на примере Санкт-Петербурга) // Теория и практика общественного развития. 2011. № 7. С. 80-84. URL: http://teoria-practica.ru/vipusk-7-2011/ (дата обращения: 06.07.2019).
- Рощин С. Ю., Рудаков В. Н. Совмещение учебы и работы студентами российских вузов // Вопросы образования. 2014. № 2. С. 152-179. DOI: https:// doi.org/10.17323/1814-9545-2014-2-152-179
- Cherednichenko G. A. The Educational and Professional Trajectories of Secondary School Graduates // Russian Education & Society. 2011. Vol. 53, issue 8. Pp. 19-35. DOI: https://doi.org/10.2753/RES1060-9393530802
- Callender C. The Impact of Term-Time Employment on Higher Education Students' Academic Attainment and Achievement // Journal of Education Policy. 2008. Vol. 23, issue 4. Pp. 359-377. DOI: https://doi.org/10.1080/02680930801924490
- King J. E. Crucial Choices: How Students' Financial Decisions Affect Their Academic Success. Washington, DC: American Council on Education, 2002. 32 p. URL: https://eric.ed.gov/?id=ED469585 (дата обращения: 06.07.2019).
- Gleason P. M. College Student Employment, Academic Progress, and Postcollege Labor Market Success // Journal of Student Financial Aid. 1993. Vol. 23, no. 2. Pp. 5-14. URL: https://eric.ed.gov/?id=EJ477819 (дата обращения: 06.07.2019).
- Харченко В. С. Учат ли быть фрилансером в российском вузе (анализ свободной занятости в контексте образовательных стандартов ВПО нового поколения) // Педагогическое образование. 2012. № 2. С. 196-199. URL: http://journals.uspu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=99:inno-vatsii-v-praktike-obrazovaniya&catid=96&Itemid=146 (дата обращения: 06.07.2019).
- Харченко В. С. Совмещение работы и учебы в вузе: новые практики и новые смыслы // Вопросы образования. 2013. № 3. С. 92-104. URL: https:// vo.hse.ru/2013--3/100508673.html (дата обращения: 06.07.2019).
- Кениг В. А. Становление профессиональной идентичности студентов, работающих по специальности // Профессиональное образование. Столица. Новые педагогические исследования. 2007. № 6. С. 64-74. URL: https://elibrary. ru/item.asp?id=14317293 (дата обращения: 06.07.2019).
- Янбарисова Д. М. Работа во время учебы в вузах Татарстана: влияет ли она на успеваемость? // Вопросы образования. 2014. № 1. С. 217-237. URL: https://vo.hse.ru/2014--1/117867961.html (дата обращения: 06.07.2019).
- Yanbarisova D. Combining University Studies with Work: Influence on Academic Achievement (December 9, 2014). Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 21/EDU/2014. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2535776
- Занятость молодежи в мотивационном и структурном измерении [Электронное издание] / М. К. Горшков [и др.]; отв. редактор М. К. Горшков. М.: Институт социологии ФНИСЦ РАН, 2017. 129 с. DOI: https://doi.org/10.19181/ inab.2017.2
- Карпенко Е. З. Сверхзанятость учащейся молодежи как фактор снижения качества человеческого капитала // Региональные проблемы преобразования экономики. 2015. № 8. С. 69-75. URL: http://www.rppe.ru/?p=1517 (дата обращения: 06.07.2019).
- Drozdikova-Zaripova A. R., Kalatskaya N. N., Kostyunina N. Y. The Research of Educational Motivation of Working and Nonworking Russian Students // Review of European Studies. 2015. Vol. 7, no. 5. Pp. 108-117. DOI: https://doi. org/10.5539/res.v7n5p108
- Ворона М. А. Мотивы студенческой занятости // Социологические исследования. 2008. № 8. С. 106-115. URL: https://www.isras.ru/socis_2008_8.html (дата обращения: 06.07.2019).
- Учись, студент? Влияние успеваемости в вузе на стартовую заработную плату выпускников / В. Н. Рудаков [и др.] // Вопросы экономики. 2017. № 3. С. 77-102. DOI: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2017-3-77-102
- Hall R. The Work-Study Relationship: Experiences of Full-Time University Students Undertaking Part-Time Employment // Journal of Education and Work. 2010. Vol. 23, issue 5. Pp. 439-449. DOI: https://doi.org/10.1080/13639080.2010.515969
- Humphrey R. Pulling Structured Inequality Into Higher Education: The Impact of Part-Time Working on English University Students // Higher Education Quarterly. 2006. Vol. 60, issue 3. Pp. 270-286. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2273.2006.00317.x
- Апокин А., Юдкевич М. Анализ студенческой занятости в контексте российского рынка труда // Вопросы экономики. 2008. № 6. С. 98-110. DOI: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2008-6-98-110
- Вознесенская Е. Д., Константиновский Д. Л., Чередниченко Г. А. «Кончить курс и место достать»: Исследование вторичной занятости студентов // Социологический журнал. 2001. № 3. С. 101-120. URL: https://www.jour.isras. ru/index.php/socjour/article/view/700 (дата обращения: 06.07.2019).
- Гимпельсон В. Е., Капелюшников Р. И. Нормально ли быть неформальным? // Экономический журнал ВШЭ. 2013. № 1. С. 3-40. URL: https://ej.hse. ru/2013-17-1/84540458.html (дата обращения: 06.07.2019).
- Нагимова А. М., Сафиуллина Ф. Р. Совмещение обучения в вузе и трудовой занятости студентов Казани // Социологические исследования. 2014. № 4. С. 121-124. URL: http://socis.isras.ru/article/5901 (дата обращения: 06.07.2019).
- Стребков Д. О., Шевчук А. В. Трудовые стратегии самозанятых профессионалов (фрилансеров) // Мир России. 2015. № 1. С. 72-100. URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=23102570 (дата обращения: 06.07.2019).
- Davis S. N., Shevchuk A., Strebkov D. Pathways to Satisfaction with Work-Life Balance: The Case of Russian-Language Internet Freelancers // Journal of Family and Economic Issues. 2014. Vol. 35, issue 4. Pp. 542-556. DOI: https://doi. org/10.1007/s10834-013-9380-1
- Красильщиков В. Ориентиры грядущего? Постиндустриальное общество и парадоксы истории // Общественные науки и современность. 1993. № 2. С. 165-175.