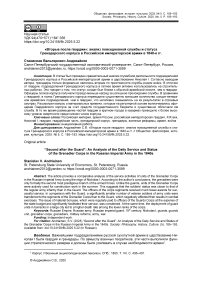«Вторые после гвардии»: анализ повседневной службы и статуса Гренадерского корпуса в Российской императорской армии в 1840-е гг.
Автор: Андриайнен С.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье был проведен сравнительный анализ служебной деятельности подразделений Гренадерского корпуса в Российской императорской армии в царствование Николая I. Согласно выводам автора, гренадеры только формально являлись вторым по престижности службы родом войск. В отличие от гвардии, подразделения Гренадерского корпуса в летнее время активно использовались на строительных работах. Это говорит о том, что статус солдат был ближе к обычной армейской пехоте, чем в гвардии. Офицеры полков корпуса получали гораздо меньше наград за успешное прохождение службы. В сравнении с гвардией, в полки Гренадерского корпуса переводили существенно меньшее количество солдат-ветеранов армейских подразделений, чем в гвардию, что негативно сказывалось на их результатах в строевых смотрах. Рассмотрен вопрос о материальных премиях, которые на регулярной основе выплачивались офицерам Гвардейского корпуса за счет средств государственного бюджета и существенно облегчали им службу. В то же время размещение частей гвардии в крупном городе в казармах приводило к более высокому уровню смертности среди нижних чинов корпуса.
Российская империя, армия России, российская императорская гвардия, XIX век, Николай I, гвардия, гвардейская часть, гренадерский корпус, гренадеры, военные реформы, армия, война
Короткий адрес: https://sciup.org/149147964
IDR: 149147964 | УДК: 94(470+571)“184”:356 | DOI: 10.24158/fik.2025.5.22
Текст научной статьи «Вторые после гвардии»: анализ повседневной службы и статуса Гренадерского корпуса в Российской императорской армии в 1840-е гг.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия, ,
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia
Введение . Важнейшими подразделениями русской сухопутной армии в царствование Николая I были гвардия и гренадеры. По замыслу военных теоретиков, эти части выполняли функции стратегического резерва и должны были усиливать в случае необходимости армию1.
С другой стороны, гвардия и гренадеры являлись образцовыми войсками в смысле организации службы: так, в гвардии проводились эксперименты (например, испытывалось новое оружие), результаты которых могли впоследствии быть распространены на остальную армию. С 1844 по 1856 гг. существовало единое объединение – Штаб Гвардейского и Гренадерского корпусов, который осуществлял командование всеми этими элитными частями.
Исследование Гренадерского корпуса как целостной структуры является актуальной задачей, потому что традиционно при изучении частей и соединений российской императорской армии внимание исследователей сосредотачивалось на полковых структурах. Эта тенденция появилась еще в XIX в., когда в полках гвардии и армии стали появляться многочисленные юбилейные полковые истории. При этом истории полков Гренадерского корпуса в основном посвящены только военным кампаниям этих частей, а не службе в мирное время (Луганин, 1889). После того как в советское время произошел понятный разрыв c традициями Российской империи, исследователи современной эпохи стали возвращаться к жанру полковых историй, однако огромная по объему работа А.В. Исакова, скорее, является компиляцией документов полкового архива (Исаков, 2019).
При всей ценности такого подхода ограничение анализа полковыми рамками приводит к тому, что авторы подобных работ не могут показать целостную картину того, как развивались военные структуры. Полковые историки могут называть статистические данные о движении солдат и офицеров, занятиях солдат в мирное время в своей части, но всегда будет вопрос, являются ли эти данные исключением или речь идет о правиле? Ответить на него можно только путем анализа деятельности крупных объединений, таких как армейские корпуса.
Иностранные исследователи, писавшие об армии Николая I, также не уделяли внимания рассмотрению крупных армейских структур, ограничиваясь только краткими справками о количестве пехотных и кавалерийских корпусов в царской армии (Curtiss, 1965: 108). При этом полки Гренадерского корпуса практически не изучались и были представлены лишь в отдельных работах по XVIII в. (Podruczny, Wrzosek, 2014).
Долгое время единственным заметным исключением являлся Отдельный Грузинский (Кавказский корпус), который целый ряд российских исследователей изучал как единую структуру1 (Лапин, 2008). В последние годы появились первые работы о других корпусах Российской императорской армии (Андриайнен, 2021; Некрашевич, 2014).
В рамках данной статьи мы проведем анализ службы частей Гренадерского корпуса в первой половине 1840-х гг. Такой выбор хронологического периода объясняется двумя факторами:
-
1. По данному временному отрезку в нашем распоряжении имеются исторические источники, которые мы впервые вводим в научный оборот.
-
2. В 1848 г. после начала волны революций в Европе Гренадерский корпус стал готовиться к походу к западным границам империи и потому характер задач, которые решали его солдаты существенно изменился.
Частью нашего исследования будет сравнительный анализ – мы будем сопоставлять условия и характер службы гвардейских и гренадерских полков и постараемся ответить на следующие вопросы:
-
1. Какова была специфика службы гренадер в мирное время?
-
2. Насколько большими были отличия в наградах, которые получали военнослужащие гренадерского и гвардейского соединений?
-
3. Существовали ли отличия в способах комплектования гренадерских и гвардейских полков нижними чинами и офицерами?
Источники . Для изучения данной темы в распоряжении историков имеется уникальный источник, который до сих пор редко привлекал внимание исследователей. В фонде Военного ученого архива (ВУА) в Российском государственном военно-историческом архиве сохранились годовые отчеты штаба Гвардейского и Гренадерского корпусов за 1843–1844 гг.2 В них представлена подробная информация о движении личного состава корпуса, наградах, которые вручались нижним чинам и офицерам. Благодаря отчетам мы можем получить представление о хозяйстве воинских частей – наличных экономических суммах и капиталах, солдатских школах.
Кроме того, для изучения данной темы использовались делопроизводственные источники – переписка частей Гвардейского корпуса со штабом, книги полковых приказов по отдельным воинским частям. Эти источники позволили лучше понять повседневную практику функционирования воинских частей в рамках сложившейся правовой системы и обычаев.
Обсуждение и результаты . В структуре российской императорской армии XIX в. гвардия и гренадеры занимали первую и вторую позиции в символической армейской иерархии «престижных» подразделений.
Особая роль гвардии не подлежала сомнению со времен Петра Великого. Привилегированный статус ее выражался в постоянном нахождении рядом с монархом, расквартировании в столице империи и ее окрестностях (в мирное время, хотя тут бывали исключения). Обер-офицеры гвардии имели преимущество в чинах над своими армейскими коллегами. Полки гвардии комплектовали отборными нижними чинами (Андриайнен, 2020: 39–41).
Привилегированный статус гренадер подтвердили военные реформы 1810–1812 гг., когда был сформулирован принцип комплектования армии, согласно которому лучшие новобранцы из частей армейской пехоты переводились в гренадерские полки, а они в свою очередь выделяли солдат на пополнение гвардейских частей (Ульянов, 1996: 12).
Существовали также различные статусные отличия гренадерских частей, например, специальный музыкальный сигнал «гренадерский бой» жаловался армейским полкам только за боевые отличия1.
После военных реформ Николая I, проведенных в 1830-е гг., гвардия и гренадеры размещались двумя компактными массами. По окончании Польской войны 1830–1831 гг. гвардейцы были расквартированы на постоянной основе в Санкт-Петербурге и прилегающих к нему уездах губернии. Часть легкой гвардейской кавалерии в связи с нехваткой казарм размещалась в новгородских военных поселениях. Однако основную массу войск в них составляли именно подразделения Гренадерского корпуса.
Приведем сведения об их расквартировании по состоянию на 1843 г.
Штаб корпуса размещался в самом Великом Новгороде. 7 легкая кавалерийская дивизия стояла в Тверской и Смоленской губерниях (штаб дивизии – Тверь, уланский великого князя Михаила Павловича полк – Торжок, уланский принца Фридриха Вюртембергского полк – Бежецк, гусарский великого князя Михаила Павловича полк – Ржев, гусарский короля Вюртембергского полк – Старица). 1 гренадерская дивизия располагалась к северу от Новгорода в 1 и 3 округах военных поселений. Штаб 2 гренадерской дивизии стоял в Пскове. Там же размещались гренадерские полки принца Оранского и Екатеринославский. Гренадерский полк принца Вюртембергского стоял в городе Порхове, а карабинерный герцога Фридриха Мекленбургского – в городе Остров. Штаб 3 гренадерской дивизии стоял в городе Старая Руса. Сибирский гренадерский полк был расквартирован в селе Корытино, гренадерский фельдмаршала графа Румянцева – в селе Высокое, гренадерский фельдмаршала Суворова – в селе Великое Село, Астраханский гренадерский полк – в селе Перечино (все эти населенные пункты находятся в современном Старорусском районе Новгородской области). Наконец, Гренадерский стрелковый батальон стоял в селе Новоселицы (к востоку от Новгорода Великого).
Говоря о расквартировании артиллерии, надо отметить разбросанное расположение ее батарей. Многие из них жили очень обособленно от пехоты, с которой ей предстояло взаимодействовать на поле боя. 7 конноартиллерийская бригада стояла в Твери, то есть рядом со штабом своей 7 кавалерийской дивизии, что было удобно с точки зрения командования. Достаточно компактно размещалась и 3 гренадерская артиллерийская бригада – в деревне Кобылкино (ныне – Старорусский район Новгородской области). Однако другие артиллерийские части располагались на солидном отдалении от штабов своих дивизий. Так, 1 гренадерская артиллерийская бригада располагалась в городе Валдай (132 км от штаба дивизии в Новгороде), 2 гренадерская артиллерийская бригада – в городе Холм (276 км от Пскова)2.
Такое расположение частей артиллерии можно объяснить двумя факторами. Традиционной проблемой русской армии была нехватка квартир для квартирования войск. Даже подразделения Гренадерского корпуса, которые размещались в новгородских военных поселениях с их большим количеством казарм, не были избавлены от этих затруднений. Кроме того, генералы и офицеры артиллерии традиционно рассматривали себя как самостоятельный род войск – «пушкарский цех». Такая автономия подкреплялась также тем, что у артиллерии был свой собственный начальник в лице генерал-фельдцейхмейстера (до 1849 г. им являлся брат императора – великий князь Михаил Павлович).
Показательным является также отдаленное от штаба корпуса и пехотных частей размещение кавалерии – 5 легкой дивизии. Во всех изученных нами отчетах кавалерия корпуса упоминалась только по «остаточному принципу», основное внимание уделялось деятельности трех гренадерских дивизий.
Такая ситуация была характерна и для других корпусов армии Николая I. В то время как дивизии 5 армейского корпуса в первой половине 1840-х гг. перебрасывали на тысячи верст от Бессарабии в Чечню, 5 легкая кавалерийская дивизия стабильно размещалась на Правобережной Украине (Андриайнен, 2021: 256–260).
Можно сказать, что при формальном единстве организационной структуры Гренадерского корпуса, который имел свой штаб и командира, отдельные рода войск внутри корпуса были в некотором смысле автономны.
В 1843 г. по списку в Гренадерском корпусе состояло 15 генералов, 119 штаб-офицеров, 1 237 обер-офицеров, 154 священника и чиновника (в отчете корпуса за этот год они были указаны одной графой и единой цифрой). Основу соединения составляли нижние чины – 42 467 строевых, 2 446 нестроевых и 705 кантонистов1.
Гренадерский корпус был меньшим по численности, чем Гвардейский. В 1843 г. в частях Гвардейского корпуса насчитывался 69 881 нижний чин (общее число офицеров в этом отчете не показано, но в следующем документе, за 1844 г., оно есть – в 1843 г. их было 1 783) 2 .
45-тысячная масса чинов Гренадерского корпуса не являлась статичной. Представление о том, что в армии Николая I военнослужащие, особенно нижние чины, всю свою карьеру служили в одной части, требует уточнений.
Внутри воинских частей постоянно происходило движение личного состава. Прибывали из учебных заведений, переводились из других частей и производились из вольноопределяющихся новые офицеры. Сведения о прибыли и убыли командующих чинов приведены в табл. 1
Таблица 1 – Прибыль и убыль офицеров в частях Гвардейского и Гренадерского корпусов за 1841–1844 гг. 3
Table 1 – Profit and Loss of Officers in the Units of the Guards and Grenadier Corps in 1841–1844
|
Год |
Прибыло офицеров |
Убыло офицеров |
||
|
гвардия |
гренадеры |
гвардия |
гренадеры |
|
|
1841 |
242 |
380 |
288 |
249 |
|
1842 |
308 |
232 |
294 |
272 |
|
1843 |
400 |
211 |
325 |
253 |
|
1844 |
250 |
292 |
242 |
379 |
При анализе данных табл. 1 можно сделать следующие выводы. Движение командиров в частях было достаточно существенным. При списочной численности штаб- и обер-офицеров гренадер в 1843 г. в 1 356 чел. их состав за один год обновился примерно на одну треть: была зафиксирована убыль в 252 чел., прибыль – в 325. Итого в Гренадерском корпусе к концу 1843 г. состояло 1 425 офицеров, из которых только 1 103 служили в нем в 1842 г. Высокая сменяемость командного состава гренадер сохранялась и в 1844 г.
Качественно он также значительно отличался в рассматриваемых структурах военного ведомства. В гвардейских полках в царствование Николая I существовало четкое правило – в строевых подразделениях офицерами могут быть только потомственные дворяне. Следовательно, для остальных в гвардии оставалось ограниченное количество вакансий – в инвалидных командах, фурштатских ротах. В Гренадерском корпусе, как и в обычной армейской пехоте, таких строгих ограничений не было, поэтому в 1844 г. из 292 новых офицеров 87 были произведены в обер-офицеры из нижних чинов. Для сравнения, у гвардейцев таких производств за год было только 174.
Достаточно заметными были отличия и в солдатской среде (табл. 2).
Таблица 2 – Прибыль и убыль нижних чинов в частях Гвардейского и Гренадерского корпусов за 1841–1844 гг. 5
Table 2 – Profit and Loss of Lower Ranks in Units of the Guards and Grenadier Corps in 1841–1844
|
Год |
Прибыло нижних чинов |
Убыло нижних чинов |
||
|
гвардия |
гренадеры |
гвардия |
гренадеры |
|
|
1841 |
4 565 |
8 423 |
6 092 |
3 799 |
|
1842 |
5 381 |
4 264 |
5 095 |
9 640 |
|
1843 |
6 362 |
3 548 |
3 221 |
2 414 |
|
1844 |
4 499 |
3 110 |
3 259 |
3 631 |
1 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 17542. Ч. 1. Л. 1.
2 Там же. Ч. 2. Л. 6; Ч. 3. Л. 4.
3 Там же. Ч. 3. Л. 3–3об.
4 Там же. Л. 2.
5 Там же. Л. 3–3об.
Прибывавшие в подразделения гвардии и гренадеров нижние чины имели существенные различия. И в одно, и в другое брали как новобранцев-рекрутов, так и опытных солдат из обычной армии. Однако пропорции их в количественном отношении существенно различались.
В гвардию в 1844 г. направили 1 963 рекрутов и 2 189 человек «старых» солдат других войск; в гренадерский корпус – 2 728 новобранцев и лишь 313 опытных военнослужащих1. О том, что эта тенденция сохранялась и в следующие годы, свидетельствуют следующие данные. В 1847 г. император повелел зачислить в гвардию 247 солдат из частей одного только Отдельного Кавказского корпуса. Сделано это было для того, чтобы в гвардии служили солдаты, отличившиеся личной храбростью и примерным поведением (Ульянов, 1996: 132).
Наличие большого числа солдат-ветеранов было существенным преимуществом для полков Гвардейского корпуса. Хорошо обученные военнослужащие легче вливались в новый коллектив, такие части могли демонстрировать лучшие результаты во время летних маневров и императорских смотров. Высокие оценки подготовки подчёркивали элитный статус гвардии и благотворно сказывались на карьере и системе поощрений для служащих в ней офицеров.
Поскольку гвардия обладала более широкими возможностями для того, чтобы пополнять свой состав за счет перевода нижних чинов из армии, ее подразделения могли более активно избавляться от солдат, которые по состоянию здоровья или поведению не подходили для службы в гвардии. У гренадер такие возможности были гораздо скромнее.
Вот цифры. В 1841 г. из гвардии по «неспособности к службе» (такова была официальная формулировка) были переведены 1 917 чел., в то время как из Гренадерского корпуса – только 278. Подобные пропорции сохранялись и в следующие годы. В 1842 г. из гвардии по указанной причине перевели 1 372 чел., а из гренадер – 6422.
Учитывая продолжительные сроки службы солдат (15 лет до перехода в статус бессрочно отпускных), закономерным представляется тот факт, что количество человек, получивших чистую отставку по выслуге лет, было весьма небольшим3. В 1844 г. таких на весь Гренадерский корпус насчитывалось только 70 чел. Однако для облегчения службы нижних чинов в первой половине 1840-х гг. руководство Военного министерства широко практиковало предоставление годичных отпусков на родину. В 1844 г. он был предоставлен 5 055 гренадерам и 5 538 солдатам гвардии4.
Основным занятием русской армии в летнее время были лагеря, куда войска выводились на маневры и смотры. Поскольку Гренадерский корпус располагался рядом с Петербургом, организация летних лагерей зависела от гвардии. С одной стороны, части Гренадерского корпуса постоянно привлекались к летним сборам в гвардейском лагере в Красном Селе, что подчеркивало привилегированный характер этих частей. С другой – в конкретный год не все части Гренадерского корпуса могли быть выведены в Красное Село, поскольку некоторые полки Гренадерского корпуса могли привлекаться к несению караульной службы в Петербурге на то время, пока гвардейцы находились в Красном Селе. В июне 1843 г. караулы в Петербурге несла 2 гренадерская дивизия. В то же время 1 и 3 гренадерские дивизии находились в Красном Селе, где участвовали в маневрах вместе с гвардией. 2 гренадерская дивизия присоединилась к ним в конце июля5.
Различие в статусах гвардейцев и гренадер подчеркивалось тем обстоятельством, что гренадерские полки периодически привлекали к трудоемким строительным работам в летнее время, от чего гвардия была полностью избавлена. Данная практика нашла широкое применение уже в 1830-е гг. Летом 1837 г. 2 гренадерская дивизия, например, должна была отправиться на строительство шоссе Псков – Остров6.
Такая тенденция сохранялась и в первой половине 1840-х гг. В 1843 г., например, 300 человек посменно строили шоссе Новгород – Старая Руса, еще 1 300 чел. были заняты на работах в округах военных поселений7. Масштабными были работы в 1844 г. 1 гренадерская дивизия работала у себя в округах военных поселений, подразделения 2 дивизии строили «плотинную дорогу» у селения Медведь, там же и в окрестностях Старой Русы трудились нижние чины 3 гренадерской дивизии8. Гвардейцы привлекались к казенным работам только в весенний период, когда по несколько сот человек в день отправляли в петербургский арсенал и в лабораторию для изготовления патронов9.
Другим аспектом, подчеркивающим неравенство гвардии и гренадер, было количество получаемых в мирное время наград. Несмотря на привилегированный статус, военнослужащие Гренадерского корпуса получал несравнимо меньше наград, чем их гвардейские собратья. Так, в 1844 г. 59 офицеров гвардии получили следующие чины, не выслужив установленные сроки, то есть за отличия. Среди командного состава гренадерских полков таких счастливчиков было только 8 человек.
Подобные диспропорции легко обнаруживаются и по другим наградам. В том же 1844 г. Высочайшее императорское благоволение за службу получили 14 гвардейских офицеров и только 3 гренадера1.
Существует еще одна чрезвычайно любопытная, но до сей поры мало исследованная тема – денежные подарки офицерам и солдатам гвардейского и гренадерского корпусов. В полковых историях данный вопрос редко освещался в силу его меркантильного характера.
Развернуто о такой практике, как помощь офицерам деньгами, писал в своих «Записках» декабрист Дмитрий Завалишин. Комментируя тот факт, что 1 батальон лейб-гвардии Преображенского полка и лейб-гвардии Саперный батальон 14 декабря 1825 г. были опорой Николая I исследователь отмечает: «Офицеры и солдаты в них пользовались очень дурной нравственной репутацией, которая составляла предмет неприличных шуток со стороны великих князей... Большая часть офицеров в этих батальонах состояла на жалованье у великих князей, что в высшей степени оскорбляло гвардию, и потому никто из порядочных офицеров ни за что не хотел идти в эти батальоны»2.
Вопрос о влиянии денежных подарков на нравственность войск требует отдельного исследования. Нам же важно отметить, что отчеты гвардейского и гренадерского корпусов показывают, что в 1840-е гг. практика денежных подарков приобрела очень серьезные масштабы. Они были трех различных форм:
-
1. Разовые денежные награды офицерам. В 1844 г. гвардейцы получили 151 подарок на общую сумму 25 673 рубля. У гренадер их было даже больше – 239 на общую сумму 29 412 рублей. Таким образом, средняя стоимость подарка в гвардии составляла 170 рублей, в то время как у гренадер – 123 руб.
-
2. Однако в гвардии существовала специальная ежегодная сумма «300-тысячный капитал», который ежегодно ассигновался специально на подарки гвардейским офицерам. У гренадер к нему доступа, естественно, не было. В 1843 г. 50 штаб- и 305 обер-офицеров получили подобные денежные награды. Раздачи были традиционными. В 1844 г. подарки из этого капитала были вручены 58 штаб- и 398 обер-офицерам гвардии.
-
3. Существовали и специальные денежные выдачи для солдат гвардии – по традиции шефы гвардейских полков выплачивали деньги нижним чинам по важным поводам. Так, в 1844 г. на именины, крестины детей и свадьбы нижних чинов в тех полках, где шефами были Романовы, было израсходовано 35 698 руб. серебром.
Кроме того, поскольку солдаты гвардии были интенсивно задействованы в караулах в огромном Санкт-Петербурге, им причиталось гораздо больше специальных «караульных денег», которые выплачивались за такого рода службу. В 1844 г. нижние чины гвардии получили выплаты на сумму 250 431 р., в то время как гренадеры – только 9 449 р.3
Продолжая разговор о материальном обеспечении гренадер в сравнении с гвардейцами, необходимо затронуть вопрос об экономических капиталах воинских частей. При существовавшей в России системе ведения военного хозяйства подразделения армии сами должны были дополнительно финансировать многие статьи своего бюджета. Денег на пошив мундиров, покупку лошадей, питание солдат мясом систематически не хватало, поэтому полковые и ротные командиры должны были изыскивать возможности для пополнения бюджетов своих частей и подразделений.
В российской армии сложилась практика, по которой по завершении летних лагерных сборов часть солдат отпускалась на «вольные работы» на несколько недель. Заработанные ими деньги зачислялись в артельные суммы, то есть солдатские капиталы, которые существовали в каждой роте, эскадроне, батарее и в первую очередь предназначались для усиления питания солдат.
Разумеется, служившие в огромном Санкт-Петербурге гвардейцы имели гораздо больше возможностей для зарабатывания денег и стоимость их услуг была выше. В 1844 г. общий объем артельных сумм в частях гвардии составлял 681 503 руб., а у гренадер – 288 094 руб.4
Другим важным подспорьем для гвардии были полковые огороды и принадлежащие подразделениям Старой гвардии земли в Петербурге. Особенным богатством отличались Преображенский и Семеновский полки, которые могли зарабатывать деньги на сдаче в аренду части войсковой земли под бани и лавки1. Однако и прочие полки гвардии имели существенные преимущества от пользования огородами. Например, лейб-гвардии Финляндский полк в 1844 г. заготовил благодаря им 429 бочек капусты и 1 065 четвертей картофеля. На этом фоне резким диссонансом является положение частей Гренадерского корпуса.
В полках 7 легкой кавалерийской дивизии огородов в 1844 г. не было вовсе. У 2 гренадерских полков (эрцгерцога Мекленбургского, и принца Евгения Вюртембергского) и всех артиллерийских частей кроме 7 конноартиллерийской бригады)2 – тоже. Нехватка огородов отрицательно сказывалась на качестве питания солдат гренадерских частей.
Несмотря на разницу в материальном положении, гренадерские части предпринимали определенные усилия для улучшения своего положения. Нельзя сказать, что в частях Гренадерского корпуса совершенно не было экономических капиталов. Они существовали, причем в разных формах. Так, в 10 гренадерском Малороссийском полку с 1826 г. имелся капитал, который пожертвовал сын фельдмаршала П.А. Румянцева Н.П. Румянцев. Он составлял 50 000 руб. и на проценты с него выплачивались пенсии вдовам и сиротам военнослужащих полка, умерших на службе (Правиков, 1889: 23).
В артиллерийских частях гренадерского корпуса существовал другой интересный обычай. Офицеры артиллерийской дивизии составили экономическую сумму из остатков от сумм, которые выделялись казной на фураж для офицерских лошадей. Это был известный трюк – если цены на фураж от казны (справочные цены) были выше реальных, то разница составляла полузаконный доход командования частей или офицеров. Полученный таким образом капитал хранился побригадно в денежных ящиках. Из него выдавались займы нуждающимся офицерам, в частности, для покупки лошадей выходящим на службу.
Эти капиталы представляли достаточную ценность, чтобы оберегать их от излишне пытливого начальства. Когда в 1850 г. командир Гренадерского корпуса, известный своим жестким нравом, генерал от инфантерии Н.Н. Муравьев потребовал показать эти суммы, артиллерийские офицеры сумели «отбить» его натиск, и данные об этом, как частное дело артбригад, остались на прежнем полуформальном положении3.
С другой стороны, у богатой в материальном отношении гвардейской службы была своя оборотная сторона. Скученное размещение солдат в казармах в крупном городе, педантичный контроль начальства, тяжелый петербургский климат приводили к тому, что в частях гвардии было гораздо более высокая заболеваемость и смертность среди нижних чинов (табл. 3).
Таблица 3 – Сравнительная таблица смертности нижних чинов Гвардейского и Гренадерского корпусов 4
Table 3 – Comparative Table of Mortality of the Lower Ranks of the Guards and Grenadier Corps
|
Годы |
Среднее списочное состояние корпуса |
Из них |
||||
|
заболело |
умерло |
|||||
|
гвардия |
гренадеры |
гвардия |
гренадеры |
гвардия |
гренадеры |
|
|
1841 |
67 958 |
49 406 |
27 011 |
13 908 |
2 097 |
793 |
|
1842 |
68 280 |
48 475 |
22 370 |
12 507 |
1 629 |
685 |
|
1843 |
69 881 |
44 461 |
22 918 |
12 550 |
1 787 |
662 |
|
1844 |
72 410 |
47 381 |
22 344 |
11 991 |
1 425 |
565 |
Таким образом, в 1844 г. в гвардии заболели 22 344 чел., в то время как среди гренадер – 11 991. Следовательно, в гвардии число учтенных больных солдат за год достигало 30,8 % списочного состава нижних чинов, в то время как гренадерском корпусе – 25,3 %. Еще более разительную картину дают цифры смертности нижних чинов. В 1844 г. у гвардейцев умерло 1 425 чел., в то время как гренадеры потеряли только 565. Таким образом, смертность среди нижних чинов гвардии составила 1,96 %, а у гренадер – 1,2 % всего списочного состава.
Заключение . Подводя итоги нашего исследования, мы можем отметить, что полки гренадерского корпуса занимали, скорее, не привилегированное, а промежуточное положение в структуре российской императорской армии, при этом у них было больше общего с полками регулярной армии, чем с гвардейцами.
В отличие от последних, гренадер регулярно привлекали на строительные работы в летнее время.
Полки гвардии комплектовались значительным количеством ветеранов из армейских полков. Наличие постоянного притока свежих кадров делало проще для них задачу по отсеву слабых и негодных к службе солдат. Эти обстоятельства облегчали подготовку войск и увеличивали шансы на отличную оценку гвардейских подразделений на летних смотрах и маневрах.
С другой стороны, подразделения Гренадерского корпуса на регулярной основе привлекались к службе в Петербурге и лагерным сборам в гвардейском лагере в Красном Селе, что подчеркивало особый статус гренадер.
В частях Гренадерского корпуса в первой половине 1840-х гг. наблюдалась высокая текучка кадров. Как нижние чины, так и офицеры по разным причинам выбывали из своих полков.
В эпоху Николая I сложилась разветвленная система материального поощрения гвардейский офицеров и нижних чинов за службу. На эти нужды государство в 1840-е гг. ежегодно тратило несколько сот тысяч рублей. Подразделения же гренадер имели очень ограниченные награды за службу в мирное время.
В то же время у гвардейцев были свои трудности службы, с которыми гренадеры сталкивались в меньшей степени. Постоянно расквартированные в крупном городе в стесненных условиях казарм и под пристальным вниманием начальства, включая самого императора и великого князя Михаила, гвардейцы должны были нести службу особенно четко. Оборотной стороной медали являлась более высокая смертность в мирное время в полках гвардии в сравнении с гренадерами.