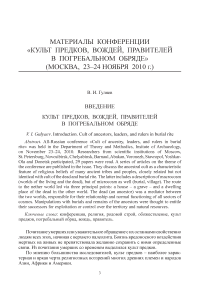Введение. Культ предков, вождей, правителей в погребальном обряде
Автор: Гуляев В.И.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 229, 2013 года.
Бесплатный доступ
23-24 ноября 2010 года в кафедре теории и методики Института археологии состоялась Всероссийская конференция «Культ предков, лидеров и правителей в усыпальнице». Исследователи из научных учреждений Москвы, Санкт-Петербург, Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Барнауле, Абакане, Воронеже, Ставрополе, Йошкар-Оле и Донецке, прочитано 29 работ. В номере опубликована серия статей по теме конференции. Они обсуждают культ предков как характерную особенность религиозных верований многих древних племен и народов, тесно связанных, но не известных с культом мертвого и погребального обряда. Последнее включает описание макрокосма (миры живых и мертвых), но и микрокосм (захоронение, деревня). Маршрут нижнего мира велся по трем основным точкам: дом - могила - и жилое помещение мертвых в другом мире. Мертвый (предок) был посредником между двумя мирами, ответственными за их отношения и нормальное функционирование всех секторов космоса. Предполагалось, что манипуляции с захоронениями и останками предков являются entitletheir преемниками для эксплуатации или контроля над территорией и природными ресурсами.
Конференция, религия, родовой строй, обожествление, культпредков, погребальный обряд, вождь, правитель
Короткий адрес: https://sciup.org/14328536
IDR: 14328536
Текст научной статьи Введение. Культ предков, вождей, правителей в погребальном обряде
Почитание умерших или уважительное обращение с их останками свойственно людям всех эпох, начиная с верхнего палеолита. Боязнь вредоносного воздействия мертвых на живых не препятствовала желанию сохранить с ними определенные связи. Из почитания умерших со временем выделился культ предков.
По мнению большинства исследователей, культ предков - наиболее характерная и яркая черта религиозных воззрений многих древних племен и народов Азии, Африки и Америки.
Культ предков, - подчеркивает С. А. Токарев, - исторически вырос, несомненно, на основе патриархально-родового строя… По мере выделения индивидуальной семьи культ предков принимал и семейные формы... Наконец, в связи с укреплением племенных и межплеменных союзов и образованием примитивных государств развился и племенной и государственный культ предков – обожествление предков вождя, правителя, царя… Этот культ тесно связан с родовым и семейным культом предков (разница та, что первый был публичный, а второй – частный, домашний) ( Токарев , 1964. С. 119, 133, 134).
Как считают О. Ю. Бессмертная и А. П. Рябинин, умершие предки часто по-прежнему считались членами рода... и составляли с живущими единую сакральную общину. Прекращение или нарушение правил отправления культа предков рассматривалось как исключение их из общины, приводило к каре с их стороны и к их окончательной гибели. Осуществляя связь коллектива с иным миром, включающим не освоенные живущими природные стихии, предки способствовали подчинению этих стихий потомкам, а также плодородию (Бессмертная, Рябинин, 1982. С. 334).
На определенной стадии развития все земледельческие общины считают совершенно необходимым постоянное вмешательство умерших предков в процесс обеспечения хороших урожаев и благополучия общества в целом. Особое значение приобретало воплощение первопредка и всех последующих предков в вождях и царях, с которыми связывались общеплеменное процветание и стабильность. Таким образом, к «предкам» стали относить не всех покойников мужского (как правило) рода, а лишь избранных (старейшин, вождей, колдунов, шаманов и др.). Постепенно сам факт «обладания предками» становится важной привилегией при завоевании более высокого социального статуса в коллективе, и эту привилегию стремятся передавать из поколения в поколение. Например, в Тропической Африке показателем знатности рода в ряде случаев служит величина генеалогического древа и, конкретно, количество черепов предков в семейном святилище. Самые знатные семьи имели в своих реликвиях до 20 черепов (Традиционные и синкретические религии Африки, 1986. С. 109).
Культ предков в традиционных африканских обществах часто сочетается с культом природы и стихий, а нередко и прямо с ними сливается... Так, готтентоты почитают могущественного духа Хейси Эйбиб. Он выступает одновременно как прародитель всех готтентотов и как владыка дождя, покровитель и податель влаги, растительных продуктов и дичи. У народов с более или менее развитой государственностью предки правителей были обожествлены. Так, Шанго – один из первых правителей йоруба, почитался как бог грома и молнии ( Львова , 1984. С. 193).
В древнем Китае в эпохи Инь (Шан) и Чжоу культ мертвых предков превратился в центральный пункт всей религиозно-этической системы местного общества. Обожествленные предки правителей-ванов во главе с легендарным первопредком стали почитаться выше всего и практически заменили собой столь характерных для других развитых земледельческих народов древности великих богов – покровителей природных стихий. Согласно письменным источникам, виднейшие представители чжоуской родовой знати имели право на определенное число храмов в честь их обожествленных предков. Принесение жертв в этих храмах было регулярной и очень важной церемонией.
В пышных гробницах иньских правителей было найдено множество великолепных изделий из бронзы - утварь, оружие, украшения, боевые колесницы с лошадьми и, что особенно важно, большое количество сопогребен-ных людей – жен, наложниц, возничих, приближенных, рабов. Все эти вещи и люди, которые при жизни служили правителю, должны были и после его смерти сопровождать хозяина в загробный мир ( Васильев , 1970. С. 42–44).
Культ предков тесно связан с культом мертвых и с погребальным обрядом, но не равен им целиком. Погребальный обряд (и, во многом, погребальный культ) включает в себя не только описание макрокосма (свой и иной мир), но и микрокосма (могила, селение и его округа). Путь в иной (загробный) мир проходил через три главные сакральные точки, отмеченные мифом и ритуалом: дом – могила (как вход в иной мир или граница иного мира) – селение мертвых (предков) в ином мире. Важнейшим локусом на пути в иной мир была могила, откуда вели дороги во все миры, поэтому сами погребальные памятники часто представляли собой модель мира (например, скифский курган). «Другой аспект ритуализации пути в иной мир – заинтересованность коллектива в присутствии там своего члена. Связь с умершим не прерывается окончательно, напротив, она регулярно обновляется по праздникам, когда “духи” возвращаются на землю: они не только воспроизводят священные действия, но и, будучи “агентами” коллектива в ином мире, способствуют подчинению природных стихий коллективу; отсюда роль культа предков во всей жизни общины. Умерший (предок) таким образом оказывается медиатором между тем и иным миром, способствующим взаимосвязи и нормальному функционированию всех частей космоса» ( Петрухин , 1979. С. 13–15).
Много интересных материалов о культе предков собрали этнографы США во время своих полевых исследований 1950-1960-х гг. в горной части штата Чьяпас (Мексика) у современных майя-цоциль и майя-цельталь. В Синакантане – одном из главных центров майя-цоциль – наиболее важными лицами в местном пантеоне были обожествленные предки ( totilme iletik - «отцы-матери»). Они, по представлениям майя, выглядят как пожилые люди и обитают внутри гор и холмов, в пещерах. Индейцы регулярно приносят духам предков различные дары и устраивают в их честь пышные церемонии. Боги-предки, по местным поверьям, могут и наградить, и наказать человека - в зависимости от его поведения, они охраняют жизнь своих сородичей, приносят плодородие полям, ниспосылают воду для ростков кукурузы и жизненных нужд людей. Но они же и поражают ударами молний отступников и нерадивых, всех, кто не заботится о памяти предков ( Vogt , 1966. Р. 281–284).
Синакантеки (майя-цоциль) общались со своими богами-предками с помощью больших деревянных «крестов», сооружаемых у подножья и на вершине каждой горы, где, по представлениям индейцев, обитали духи предков («крест» здесь – имитация «мирового дерева»).
Кроме того, этнографические материалы из Синакантана свидетельствуют о тесной взаимосвязи между указанными священными местами – будь то гора, пещера или источник воды - и единицами социальной структуры: каждая большая патриархальная семья имеет свое святилище, каждый локализованный ли-нидж – свою священную пещеру, колодец, небольшую гору, и т. д. В связи с этим известный этнограф из США Э. З. Фогт предполагает наличие определенной концептуальной взаимосвязи между горами с пещерами как жилищами богов-предков у синакантеков, с одной стороны, и каменными ступенчатыми пирамидами храмов древних майя, имеющих изображения богов-предков (умерших обожествленных правителей) на гребнях храмовых крыш, притолоках храмов и содержащих погребения тех же почитаемых правителей внутри пирамид, – с другой ( Vogt , 1983. Р. 113, 114).
Вполне естественно, что чем более сложный характер имело общество и чем более высокий статус занимал в нем умерший индивид, тем более пышный посмертный культ и изощренные ритуалы были связаны с ним ( Coe , 1965а. Р. 193). Здесь можно напомнить о культе умерших царей и их божественных предков в ряде ранних государств Азии и в доколумбовой Мезоамерике (майя, сапотеки, ацтеки), где сооружались не только пышные царские гробницы (нередко с массовыми человеческими жертвоприношениями), но и величественные заупокойные храмы над этими гробницами. Можно даже сказать, что в древнем Китае (эпохи Инь и Чжоу) и в доколумбовой Мезоамерике (у майя классического периода, III–IX вв. н. э.) культ царских предков превратился в общегосударственную религию ( Гуляев , 1990. С. 164–183).
И еще один важный момент. Зафиксированные у многих народов и племен древности манипуляции с погребениями предков и их останками (которые так или иначе пытались сохранить: мумификация, копчение, засолка, глиняные посмертные маски и др.) имеют и вполне материальный аспект – ссылка на могилы предков позволяла человеческим коллективам разного уровня предъявлять права на использование местных природных ресурсов, включая землю (гипотеза 8 Артура Сакса), или контроль над ними. А обращение к авторитету обожествленных предков часто использовалось правителями всех мастей для легитимации своей власти. Особенно данная традиция (включая различные виды мумификации предков) поддерживалась в доиспанскую эпоху в Южной Америке – Эквадоре, Перу и Чили: от культуры Чинчорро на Тихоокеанском побережье (6000–500 гг. до н. э.) до мумий царственных инков в XVI в. н. э. ( Dillehay , 1995. Р. 1–19).
В целом археологические (здесь берутся лишь погребальные памятники), этнографические и этноисторические материалы, отражающие культ предков, вождей и правителей в древности и средневековье, достаточно велики и разнообразны. Тем не менее остается еще много нерешенных важных проблем и в этой области знания. Например, ряд ученых (С. А. Токарев, Б. И. Шаревская и др.) считают, что культ предков, в его развитых формах, существовал лишь в оседлых земледельческих обществах, а у кочевых племен и народов такого культа либо вообще не было, либо он был представлен очень слабо (в том числе и в погребальном обряде). Мне представляется, что подобное мнение носит довольно спорный характер, т. к. погребальные памятники (курганы) кочевников-скотоводов раннего железного века Евразии говорят скорее об обратном. Достаточно вспомнить здесь грандиозные курганы высшей скифской знати, где элитные могилы не только содержат фантастические богатства, но и сопровождаются захоронениями коней, слуг и прочих персон.
Есть и другие нерешенные или слабо разработанные вопросы, связанные с культом предков.
Для нас, археологов, очень важно выявить материальное, вещественное воплощение культа предков, и прежде всего в погребальном обряде. Часто встречающиеся в зарубежной и отечественной литературе высказывания о том, что изучение культа предков возможно только по историческим и этнографическим источникам, на мой взгляд, не совсем справедливы. И в качестве аргумента в пользу большой роли археологических данных при изучении культа предков я хочу привести несколько примеров из практики современных археологов.
Очень показательно, к примеру, что археологи в процессе своих исследований часто отмечают факт настойчивого стремления древних людей, хоронивших своих умерших в разного рода могильных сооружениях, сохранить в той или иной форме какую-то духовную связь. Правда, следует подчеркнуть, что речь здесь идет, как правило, только о социально значимых покойниках.
В Западной Мексике, на территории современных мексиканских штатов Найярит и Колима, для захоронения мертвецов во второй половине I тыс. до н. э. устраивали так называемые «шахтные гробницы». Для этого с поверхности земли вырывался глубокий вертикальный колодец-шахта (иногда его глубина достигала 15–16 м), и на дне его в твердом грунте вырубалась одна или две гробницы-катакомбы, куда и помещались умершие с соответствующим инвентарем. Но на этом дело не кончалось. От гробниц наверх часто шла керамическая труба, предназначенная, видимо, для общения с духами покойников. А над устьем шахты возводилось легкое святилище из дерева, прутьев и глины с лиственной крышей, скорее всего, для отправления заупокойного культа предков ( Furst , 1975. Р. 40-45).
Наиболее полно и ярко данная традиция «духовного общения» потомков с давно почившим почитаемым предком воплотилась в культе древних майя I тыс. н. э. Во многих крупных городах майяской цивилизации над гробницами знатных персонажей (правителей городов-государств) сооружались на пирамидальных основаниях монументальные храмы для отправления заупокойного культа предка-правителя. Связь с душой умершего осуществлялась в них либо через каменную трубу («душепровод», по меткому выражению мексиканского археолога Альберта Руса Луилье), как в гробнице царя в Храме Надписей в городе Паленке, либо через внутреннюю лестницу, как в склепе «Верховного Жреца» в Чичен-Ице ( Гуляев , 1990. С. 164–170).
По мере усиления социального размежевания в обществе майя и укрепления власти правителя на первый план в местной религии все более выдвигается поклонение предкам царской династии. Об этом достаточно четко сообщают нам письменные источники XVI-XVII вв. Испанский летописец Хуан де Вилья-гутьерре Сото-Майор, описывая последнее независимое государство майяицев Тайясаль, уцелевшее в непроходимых лесах Северной Гватемалы до 1697 г., от- мечает, что в их столице имелось «большое святилище, принадлежащее правителю Канеку и его предкам, которые были когда-то царями в провинции Юкатана» (de Villagutierre Soto-Mayor, 1933. Р. 387).
«Они, – пишет об индейцах майя п-ова Юкатан Лопес де Когольюдо, – поклонялись как богам своим умершим царям» ( de Cogolludo , 1854. Р 355).
Индеец майя из знатного рода правителей Тутуль-Шивов – Гаспар Антонио Чи - приводит следующие интересные факты о культуре своих предков до прихода испанцев: «И главными идолами, которым они приносили жертвы, были статуи мужей в их естественном обличии, которые были выдающимися и храбрыми людьми и которых они вызывали… чтобы те смогли им помочь в войнах, даровали процветание и продлили их жизни» (The «Historical Recollections»… 1952. Р 41). Самые подробные сведения на этот счет мы находим в хронике испанского епископа Диего де Ланды «Сообщение о делах в Юкатане»:
Что до сеньоров и людей очень значительных, – пишет он о юкатанских майя XVI в., - они сжигали их тела, клали пепел в большие сосуды и строили над ними храмы… В настоящее время бывает, что пепел кладут в статуи, сделанные полыми из глины, если (умершие) были великими сеньорами. Отдельные знатные люди делали для своих отцов деревянные статуи, у которых оставляли отверстие в затылке; они сжигали какую-нибудь часть тела, клали туда пепел и закрывали его; затем они сдирали с умерших кожу с затылка и прикрепляли ее там, погребая остальное по обычаю. Они сохраняли эти статуи с большим почитанием между своими идолами.
У сеньоров древнего рода Коком они отрубали головы, когда они умирали, и, сварив их, очищали от мяса; затем отпиливали заднюю половину темени, оставляя переднюю с челюстями и зубами. У этих половин черепов заменяли недостающее мясо особой смолой и делали их очень похожими (на таких), какими они были (при жизни). Они держали их вместе со статуями, с пеплом и все это хранили в молельнях своих домов со своими идолами, с очень большим почитанием и благоговением. Во все дни их праздников и увеселений они им делали приношения из своих кушаний, чтобы они не испытывали недостатка в них в другой жизни, где, как они думали, покоились их души, и пользовались их дарами ( де Ланда , 1955. С. 163, 164).
Археологические материалы конца I тыс. до н. э. и I тыс. н. э. из разных областей территории культуры майя дают ряд прямых подтверждений свидетельствам этноисторических источников XVI-XVII вв. В древнем Тикале (департамент Петен, Гватемала) еще на заре формирования института царской власти, в I в. до н. э., в районе «Северного Акрополя» была сооружена в известняковом скалистом грунте каменная гробница со ступенчатым («ложным») сводом (погребение 85). На полу склепа размерами 2,45 х 1,25 м находился скелет взрослого мужчины, помещенного первоначально в сидячем положении. Он был плотно спеленат какой-то тканью. Череп и берцовые кости ног отсутствовали. На месте черепа лежала великолепная маска из зеленого камня, глаза и зубы которой были инкрустированы раковинами (Coe, 1965b. Р. 1414). Есть предположение, что маска изображает майяское божество кукурузы. Если это так, то перед нами – погребение какого-то знатного персонажа в маске бога маиса, вероятно имперсонатора данного божества. Часть костей умершего (череп и длинные кости ног) была изъята спустя какое-то время после захоронения для совершения культовых ритуалов. После окончания погребальных церемоний над гробницей построили легкое святилище из дерева и глины с крышей из пальмовых листьев. Здание стояло на двухступенчатой каменной платформе, оштукатуренной и окрашенной в красный цвет. Это, видимо, один из древнейших образцов заупокойных храмов в равнинных лесных областях майя (Coe, 1965b. Р. 1414).
В богатом погребении V в. н. э. в том же Тикале (погребение 48) у захороненного там мужчины отсутствовали череп и берцовые кости ног ( Coe , 1965а. Р. 29).
В близлежащем городе Вашактуне (Петен, Гватемала) череп мужчины, погребенного в просторной каменной гробнице, был рассечен поперек, и у него отсутствовала передняя часть. Это подтверждает наличие у майя уже в I тыс. н. э. искусственной реставрации голов правителей – обычая, упоминаемого Ландой для Юкатана XVI в. ( Гуляев , 1979. С. 160).
Судя по иконографии, особым почитанием у майя в классический период (III–IX вв. н. э.) помимо черепов предков пользовались длинные кости ног. На одной из стел города Агуас-Кальентес правитель изображен с берцовой человеческой костью в руке вместо обычного в таких случаях царского скипетра или иного атрибута власти; это косвенно может говорить о том, что кость предка могла быть неким функциональным эквивалентом канонической инсигнии власти (скипетру, «ритуальной полосе»). Неоднократно в ходе раскопок археологам удавалось найти длинные кости ног человека с изящными резными орнаментами, изображениями и иероглифами. Как правило, это были мотивы, прямо связанные с культом правителя и его предков: царь на троне, мифологические сцены, чудовища подземного царства смерти и т. д. ( Luis Franco , 1968. Р. 13–23).
Много новых фактов могут дать в этой связи и материалы из раскопок скифо-сарматских курганов Евразии. Например, открытие ритуальных подземных ходов, ведущих к главной могиле, в курганах высшей кочевой знати в Степной Скифии ( Болтрик , 2000) и в Филипповском 1 кургане на Южном Урале ( Яблонский , 2010. С. 38, 39). Как выясняется, эти ходы функционировали уже после завершения погребения для каких-то особых ритуалов и «общения» с душами знатных покойников.
Есть интересные гипотезы по поводу «частично разрушенных погребений» ( Афанасьев , 2010. С. 45, 46).
Нельзя пройти и мимо мнения А. М. Хазанова и Е. В. Черненко, которые объясняют «вторжения» современников похорон в «царские» курганы Скифии не для ограбления (хотя и этого в древности хватало с избытком), а для получения «фарна» («хварна»), «маны» - божественной силы, содержавшейся, как считали ираноязычные кочевники-скифы, в бренных останках знатного покойника ( Хазанов, Черненко , 1979).
Учитывая вышесказанное, есть все основания полагать, что Всероссийская научная конференция «Культ предков, вождей, правителей в погребальном обряде», проведенная Отделом теории и методики ИА РАН 23–24 ноября 2010 г., была вполне актуальна и полезна. В ней приняли участие сотрудники различных научных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска, Барнаула, Абакана, Воронежа, Ставрополя, Йошкар-Олы и Донецка, прочи- тавшие 29 докладов по данной теме. К началу конференции был издан сборник тезисов докладов «Культ предков, вождей, правителей в погребальном обряде» общим объемом 8 а. л. По окончании данного мероприятия было решено издать сборник статей. Однако когда вопрос с финансированием сборника стал откладываться на неопределенный срок, часть докладчиков забрали свои статьи или же вообще не прислали их в Отдел теории и методики. Таким образом, вниманию читателей предлагаются материалы, оставшиеся в портфеле организаторов конференции, которые любезно согласилось издать в одном из своих выпусков руководство КСИА.
Список литературы Введение. Культ предков, вождей, правителей в погребальном обряде
- Афанасьев Г. Е., 2010. Забота о предках или стремление избавиться от них? (К дискуссии исторической интерпретации разрушенных скелетов Маяцкого могильника)//Культ предков,
- вождей, правителей в погребальном обряде: Сб. тез. докл. М.
- Бессмертная О. Ю., Рябинин А. П., 1982. Предки//Мифы народов мира: Энциклопедия. М. Т. 2.
- Болтрик Ю. В., 2000. Скифский курган как единый ансамбль//Скифы и сарматы в VII-III вв. до н. э. М.
- Васильев Л. С., 1970. Культы, религии, традиции в Китае. М.
- Гуляев В. И., 1979. Города-государства майя. М.
- Гуляев В. И., 1990. Государственная идеология древних майя (к вопросу о культе царских предков)//Проблемы археологии и древней истории стран Латинской Америки. М.
- де Ланда Д., 1955. Сообщения о делах в Юкатане. М.; Л.
- Львова Э. С., 1984. Этнография Африки. М.
- Петрухин В. Я., 1979. О функциях космологических описаний в погребальном культе//Обычаии культурно-дифференцирующие традиции у народов мира. М.
- Токарев С. А., 1964. Религии в истории народов мира. М.
- Традиционные и синкретические религии Африки. М., 1986.
- Хазанов А. М., Черненко Е. В., 1979. Час i мотиви пограбування скiфських курганiв//Археологiя. Київ. № 30.
- Яблонский Л. Т., 2010. Подземные ходы Филипповских курганов//Культ предков, вождей, правителей в погребальном обряде: Сб. тез. докл. М.
- Coe W. R., 1965a. Tikal, Guatemala and emergent Maya civilization//Science. Washington. Vol. 147, № 3664.
- Coe W. R., 1965b. Tikal: ten years of study of a Maya ruin in the Lowlands of Guatemala//Expedition.
- Philadelphia. Vol. 8, № 1.
- de Cogolludo L., 1954. Historia de Yucatan. Campeche. T. 1.
- Dillehay T. D., 1995. Introduction//T. D. Dillehay (ed.). Tombs for the Living: Andean Mortuary Practices. Washington, D. C.
- Furst P. T., 1975. House of Darkness and House of Light: Sacred Functions of East Mexican Funerary Art//E. P. Benson (ed.). Death and Afterlife in Pre-Columbian America. Washington, D. C.
- Luis Franco J. C., 1968. Objeto de hueso de la epoca precolombina. Mexico.
- The «Historical Recollections» of Gaspar Antonio Chi. Provo, 1952.
- de Villagutierre Soto-Mayor J., 1933. Historia de la conquista de la provincial de el Itza. Guatemala.
- Vogt E. Z., 1966. Ancestor worship in Zinacantan religion//Actas y Memorias del XXXVI Congreso Internacional de Americanistos. Sevilla. № 3.
- Vogt E. Z., 1983. Ancient and contemporary Maya settlement patterns: a newlook from the Chiapas Highlands//E. Z. Vogt, R. M. Leventhal (eds). Prehistoric Settlement Patterns. Cambridge, Mass.