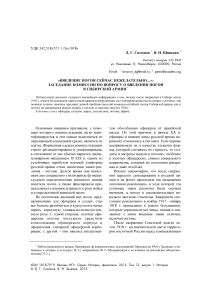"Введение погон сейчас нежелательно...": заседание комиссии по вопросу о введении погон в сибирской армии
Автор: Симонов Дмитрий Геннадьевич, Шишкин Владимир Иванович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Документальные страницы
Статья в выпуске: 1 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Публикуемый документ содержит важнейшую информацию о том, почему после свержения в Сибири летом 1918 г. власти большевиков перед командованием вооруженных сил контрреволюции встал вопрос о погонах, как понимал и какое значение придавал данной проблеме высший командно-штабной состав Сибирской армии, как и почему он намеревался решать вопрос о погонах в середине августа 1918 г.
Офицеры, солдаты, народ, дисциплина, погоны, форма
Короткий адрес: https://sciup.org/147218664
IDR: 147218664 | УДК: 342.518
Текст научной статьи "Введение погон сейчас нежелательно...": заседание комиссии по вопросу о введении погон в сибирской армии
Основным внешним признаком, с помощью которого военнослужащие легко идентифицируются и тем самым выделяются из окружающей социальной среды, является их платье. Форменная одежда военнослужащих строго регламентирована и унифицирована, а отклонение от нее обычно карается дисциплинарным наказанием. В XIX в. одним из устойчивых атрибутов военной униформы русской армии стали наплечные знаки различия – погоны. Долгое время они выполняли две совершенно утилитарные функции: служили определителями воинского звания носителя погон, а также фиксировали принадлежность военнослужащего к роду войск и к определенной воинской части.
Но постепенно внешний вид погон, предназначенных для офицеров и солдат, стал все больше различаться и в результате начал играть серьезную социально-психологическую роль. С одной стороны, золотые офицерские погоны послужили средством консолидации офицерского корпуса и оформления элитарной офицерской корпорации; с другой – они явились инструмен- том обособления офицеров от армейской массы. По этой причине в начале XX в. офицеры и нижние чины русской армии по-разному относились к погонам. Если первые воспринимали их в качестве элемента формы, который составлял их гордость, то солдаты и матросы видели в погонах, особенно в золотых офицерских, символ социального неравенства, который их постоянно раздражал и даже озлоблял.
Вполне закономерно, что после свержения царского самодержавия в русской армии и на флоте произошла так называемая «погонная революция», в ходе которой эти уставные знаки различия были сначала явочным, а потом и законодательным порядком частично отменены. Завершили «погонную революцию» в ноябре 1917 – январе 1918 г. пришедшие к власти большевики, которые упразднили все чины, звания и связанные с ними внешние знаки отличия, включая погоны.
После свержения Советской власти летом 1918 г. на значительной части территории восточной России перед командованием антибольшевистских вооруженных сил, состоявших в своей значительной массе из офицеров-добровольцев, встал вопрос об отношении к погонам. Публикуемый ниже документ дает достаточно полное представление о том, почему этот вопрос возник, как понимал и какое значение придавал ему высший командно-штабной состав Сибирской армии, как и почему именно так, а не иначе он намеревался решать вопрос о погонах в середине августа 1918 г.
Отчет заседания комиссии по вопросу о введении погон в Сибирской армии
[г. Омск] [14 августа 1918 г.]
Заседание открывается в 11 часов 13 минут 14/VIII 1918 года
Председательствует генерал-майор Мен-де 1.
Члены [комиссии: генерал-майор] Иванов 2, полковник 3 Белов 4, [полковник] Бобрик 5, подполковник Васильев 6, [подполковник] Василенко 7.
Секретарь [–] штабс-капитан Фризель 8.
Генерал-майор Менде : Командующему армией представлялся проект дать вместе с боковым знаком погоны, одинаковые для всех, но он этот проект забраковал. По-моему, в народе нет ненависти к погонам, а только к шифровке. Так, например, в Петрограде срывание погон началось с солдат, а не с офицеров, и вызвано было тем, чтобы нельзя было узнать, к какой части принадлежат хулиганствующие солдаты. Бояться агитации на этой почве можно только тогда, если у нас не будет дисциплины. Если же дисциплина будет, то нечего бояться агитации и [можно] ввести старые погоны.
Полковник Белов: Дисциплина, безусловно, должна быть, но не должно быть так называемого цукания, бессмысленной подтяжки. Голоса массы мы сейчас не слышим, но этот голос есть, и про него не надо забывать. Что мы видим теперь: молодежь надевает погоны и не желает носить «таблеток» 9, т. к. таковые носит и милиция. Вспомните разрешение носить сабли в пехоте. Это вызвало то, что все кавалеристы тотчас перестали их носить. По-моему, если надеть милиции погоны, то офицеры будут противниками их. До мобилизации во всяком случае не следует вводить погоны. Введение погон сейчас преждевременно, не вы- зывается потребностью момента. Отличить чины и части войск можно другим способом. Когда пройдет хорошо мобилизация и народ увидит, что это не возврат к старому, а требование момента. Когда мы увидим, что кадр в частях подобран хорошо. Народ поймет, что дисциплина устанавливается разумная, нет особой касты, то тогда дело будет другое. Если же погоны и должны быть, то у всех одинаковые, т. к. это будет отделять нашу военную товарищескую среду (конечно, товарищество понимать не по-красноармейски) от прочих элементов, носящих одежду защитного цвета. Еще раз повторяю, что должна быть полная сознательная дисциплина, но не должно быть немецкой муштры. Она не в характере русского народа. Не должно быть деления на касты, но дисциплина должна быть. Народ против подтяжки, которая была, и поэтому я смотрю так: требовать исполнения надо, но излишнюю подтяжку следует устранить. Это нисколько не уменьшит нашей внутренней дисциплины, а, наоборот, создаст спайку.
Генерал-майор Иванов: Раньше у нас в России было «быдло» и «господа», поэтому везде, как на военной, так и на гражданской службе, проводилось такое разделение. В связи с этим [существовала] ненависть рабов к господам. Ясно поэтому, что народ против «благородий», это отрыжка крепостничества. Погоны для офицера были отличием «благородного» от прочих, а для солдат они являлись «бубновым тузом» арестанта. У солдата была ответственность, были обязанности, но не было прав. Номер на погоне [–] была вывеска, благодаря которой выше стоящие тянули 10. Отсюда начинается негодование народных масс против погон. В офицерской же среде благодаря воспитанию в кадетских корпусах, где им с малолетства вбивали в голову [понятие] о чести мундира, погон, которые они будут носить, создался совершенно ложный культ погон. Не заплатить во время карточного долга считалось оскорблением для полка, а не заплатить прачке, у которой может быть восемь человек детей – ничего. И вот когда столкнулись ложное воспитание офицера с[о] справедливым негодованием народных масс, получилось то, что мы имели возможность наблюдать. Надевание погон в народе вызовет негодование, а снятие, благодаря ложности представления об офицер- ской чести, наденет венец мученичества на последних (по их мнению). Сейчас победа на стороне офицерства. В Сибири не надели погон, в других же местах [их] надевают. Вопрос о погонах важнейший, его надо решить.
Я согласен с Петром Петровичем [Беловым], что погоны не должны бать разные для офицеров и солдат, а одинаковые. Но они должны быть, т. к. иначе будет пустое место, а природа пустого места не потерпит. Вместо того, чтобы ждать пока это пусто место заполнится различными суррогатами, лучше заполнить его сейчас, вперед. Предлагаю погоны для всех одинаковые, как для офицеров, так и для солдат. Узенькая полоска материи с обозначением части.
Полковник Бобрик : По-моему, заполнение пустого места - это недоразумение. Это только привычка. Почему мы кусочками материи не заполнили другие пустые места? Сейчас не вижу достаточно оснований для надевания хотя бы и одинаковых погон. Кроме недовольства в народных массах, погоны нам сейчас ничего не дадут.
Генерал-майор Иванов : Но ведь находятся такие экспериментаторы, как Анненков и, который приказывает надеть своему отряду погоны, и к нему идет офицерство. У нашего же народа вообще есть ненависть к форме. С этой ненавистью нам нужно бороться. Нам придется бороться с[о] стремлением народа перейти опять в первобытное состояние. Придется бороться с хулиганством, но не с серьезным отношением к этой полоске (погон).
Полковник Бобрик : Если мы сейчас отдадим распоряжение надеть таблетки и запретим заполнять «пустое место», то гораздо важнее заставить не заполнять «пустого места». Необходимо показать твердость власти. Если подсчитать, то большинство [военных], пожалуй, будет против заполнения того «пустого места». Погоны сейчас надевают офицеры определенной категории. Все же серьезно [и] вдумчиво относящееся [к событиям] офицерство, которое в большинстве на фронте, не надевает погон. Даже наоборот, в Иркутске, например, заставляют самочинно надевших погоны снимать их. По-моему, следует обратить самое серьезное внимание на самочинно надевающих погоны и не останавливаться даже перед расформированием частей, продолжающих носить их.
Генерал-майор Иванов : Для меня не ясно, меньшинство это или большинство [военных]. Пример - Уральское казачье войско. Объявление не носить погоны мне кажется не обоснованным, т. к. я не вижу, большинство или меньшинство желает их носить.
Полковник Бобрик : Немцы также отдали в оккупированных областях приказ надеть [русским] офицерам погоны. Но в Киеве, например, надело, по-моему, не более 18 человек. Очевидно, большинство считало для себя почему-либо неудобным надеть погоны.
Генерал-майор Иванов : Но там офицерство могло не надеть погон[ы], т. к. они давались немцами.
Генерал-майор Менде : При изготовлении этих боковых знаков почти все офицеры выражали недовольство. А если мы будем обращать такое внимание на народную массу, то, по-моему, она будет настроена и против этих боковых знаков, т. к. на них есть галунные отличия. Мне кажется, в народе ненависти против погон нет, а есть недовольство формой, отличающей начальство.
Генерал-майор Иванов : Против боковых знаков, по-моему, не будет особого недовольства. Не надо только делать резких отличий, не надо разделять армию на белую и черную кость.
Полковник Бобрик : Если будет решение ввести погоны, то я предложил [бы] сделать это после мобилизации. Ввести погоны в регулярной армии, а не в добровольческой. Но лучше совсем не вводить погон[ы].
Подполковник Василенко : Здесь мы видим очень простую психологию народа. Была его воля [-] сдирал погоны, т. к. не мог сам достичь этого. Теперь наша воля - мы наденем [погоны] и этим возбудим народ против себя. Я против погон.
Генерал-майор Иванов : Я не разделяю взгляда, что это простая психология [-] была воля народа, и он сдирал [погоны]. По-моему, не сами погоны возбуждают, а боязнь возврата к старому. Хотя сдвиг в народе к порядку есть. Вопрос о погонах будет стоять остро только тогда, когда на этом будут играть демагоги. Но отношение к офицеру уже несколько другое теперь. Даже большевики признали, что офицер [-] это квалифицированный рабочий.
Полковник Белов: Беда в том, что на этом не только будут играть, но уже играли демагоги. И глубокий след этой игры в народе остался. Помните крики их о золотопогонниках? Народ в общем понимает необходимость защищать родину, но народ против военщины, против бессмысленной игры в солдатики. С этим считаться приходится. Поэтому я против резких отличий между офицерами и солдатами. Не следует давать материала для мелких дрязг. Следует требовать строгого исполнения приказаний и всех служебных обязанностей, но не надо придавать излишнего значения обрядам. Нужна дисциплина прежде всего внутренняя. Поэтому, по-моему, нет основания под[д]а[ва]ться чувству покрасоваться в погонах.
Генерал-майор Иванов : Солдаты вообще с яростью набросились на проявление дисциплины, а движение против погон [–] частный случай.
Подполковник Васильев : За это время мне приходилось часто ездить в вагонах третьего и четвертого класса, и из разговоров с народом я вынес впечатление, что он против погон.
Полковник Белов : Я не согласен, что ненависть к погонам – частный случай. Нельзя, по-моему, ставить в одну плоскость безобразие отдельных пьяных толп с настойчивым желанием широких, даже благонамеренных, слоев народа снятием погон уничтожить разделение армии на касты.
Генерал-майор Иванов : Итак, я предлагаю ввести в нашей армии погоны защитного цвета, для всех одинаковые.
Генерал-майор Менде : Считая, что подлежащий обсуждению вопрос освещен с достаточной ясностью, ставлю его на голосование. Кто против введения погон и кто за? Все, кроме одного, высказались против.
Постановление комиссии по вопросу о введении погон 12.
Согласно приказания командующего Сибирской армией, собравшись 14-го августа 1918 года в 11 час[ов] 13 мин[ут], комиссия по вопросу о введении в Сибирской армии погон, рассмотрев с достаточной полнотой и ясностью этот вопрос, постановила:
введение погон сейчас нежелательно, так как это вызовет недовольство в народных массах, которое в связи с предстоящей мобилизацией может вылиться в ряд эксцессов и этим нарушить начинающиеся единение и оздоровление народа.
Секретарь – штабс-капитан Фризель.
Российский государственный военный архив. Ф. 39617. Оп. 1. Д. 7. Л. 24–26. Машинописная копия.
Проходил службу в лейб-гвардии Волынском полку, в дальнейшем – на военно-судебных должностях: помощник военного прокурора Петербургского военно-окружного суда, помощник начальника отделения Главного военно-судного управления, начальник отделения Главного военно-судного управления. Во время Мировой войны занимал должность военного судьи Минского и Петроградского военно-окружных судов на театре военных действий. С 1917 г. – военный прокурор Омского военно-окружного суда. Активный участник сопротивления установлению Советской власти в Омске, за что в ноябре 1917 г. был предан суду революционного трибунала. С 1 июня 1918 г. являлся главным начальником снабжения Западно-Сибирской отдельной армии, с 9 июня – прокурором Западно-Сибирского военного округа, с 22 июля – главным начальником Западно-Сибирского военного округа. В августе 1918 г. исполнял также должность управляющего военным министерством Временного Сибирского правительства. С 19 декабря 1918 г. исполнял должность председателя соединенного присутствия главного военного и морского судов.
В 1920 – начале 1930-х гг. жил в Петрограде (Ленинграде) по чужой фамилией. Осенью 1932 г. арестован органами ОГПУ, 29 декабря приговорен к пяти годам ссылки и выслан в Северный край.
Комкор Степного г[енерал]-м[айор] Иванов-Ринов».
«INTRODUCTION OF SHOULDER BOARDS IS NOW UNDESIRABLE...»: COMMISSION MEETING ON THE ISSUE OF SHOULDER BOARDS INTRODUCTION IN SIBERIAN ARMY