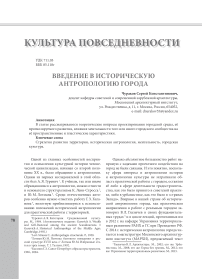Введение в историческую антропологию города
Автор: Чураков Сергей Константинович
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Культура повседневности
Статья в выпуске: 4, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются теоретические вопросы проектирования городской среды, её прогнозируемого развития, влияния ментальности того или иного городского сообщества на её пространственные и пластические характеристики.
Стратегия развития территории, историческая антропология, городская культура
Короткий адрес: https://sciup.org/170173846
IDR: 170173846 | УДК: 711.03
Текст научной статьи Введение в историческую антропологию города
Одной из главных особенностей восприятия и осмысления культурной истории человеческой цивилизации, начиная со второй половины ХХ в., было обращение к антропологии. Одним из первых исследователей в этой области был А. Я. Гуревич 1. К учёным, так или иначе обращавшимся к антропологии, можно отнести и основателя структурализма К. Леви-Стросса 2, и Ю. М. Лотмана 3. Среди отечественных авторов особенно нужно отметить работу Г. З. Каганова 4, вплотную приблизившуюся к использованию положений исторической антропологии для практической рабо ты с территорией.
Однако абсолютное большинство работ напрямую с задачами проектного воздействия на город не были связаны. И это понятно, поскольку сфера интереса и антропологии истории и антропологии культуры не затрагивали область практической работы с городом, оставляя её либо в сфере деятельности градостроительства, как это было принято в советской практике, либо в урбанистике, как это было в «странах Запада». Впервые в нашей стране об исторической антропологии города, как практическом направлении в работе с реальным городом заговорил В. Л. Глазычев в своих фундаментальных трудах 5 и в цикле лекций, прочитанных им в 2012 г. на кафедре Управления территориальным развитием РАНХ и ГС при Президенте РФ. С 2014 г. историческая антропология города читается в магистратуре Московского архитектурного института (МАРХИ), предлагаемый текст представляет собой часть лекционного курса по этой дисциплине.
В сегодняшней практике — это научное направление включается в сферу интересов урбанистики, хотя по своей сути оно первично по отношению к урбанистике, которая есть всего лишь набор инструментов и методик, реализующих историческую антропологию города. Те или иные типы освоения пространства города, их конкретная пластическая интерпретация, сама геометрия города зачастую объясняются не столько функциональной необходимостью, сколько действом, имеющим корни в культуре. Более того, эти корни часто лежат в сфере сакрального, что неизбежно выводит на понимание города не просто как функционального объекта, но объекта возникающего и существующего исключительно в сфере этнокультуры. Выявление и реализация этнокультурной идентичности города является приороитетной задачей при проектном вмешательстве любого масштаба.
Аналитическая работа с городом, каковы бы ни были его физические размеры, начинается с ответа на несколько вопросов, главный из которых заключается в следующем: возможно ли вообще построить работающую модель (проект) реального развивающегося города?
Важнейшим в ряду первоначальных действий становится выбор системы координат, ориентируясь на которые возможно анализировать и прогнозировать процессы не столько функционирования, сколько жизнедеятельности города. Надо понимать, что в своём выборе исследователь-проектировщик обязательно будет субъективен, поскольку неизбежно ориентируется на собственные предпочтения, предвзятости, отбор и трактовку параметров ит.д.
Поэтому для минимизирования такого невольного субъективизма изначально, во-первых, в проекте необходимо закладывать несколько качественно различных оценочных координат, например интенсивное развитие, ретроразвитие, и т.д. И, во-вторых, в каждой из них прогнозируется веер возможных вариантов развития внутри выбранной системы координат. Например, оценка вектора развития данной территории может быть как позитивной: «место сохранило свою историческую и культурную идентичность», так и противоположной — «ме- сто остановилось в своём развитии, отсутствуют признаки интенсивного развития, тип освоения пространства архаичен и не соответствует “современным” требованиям».
На первом этапе и происходит рассмотрение и сравнение этих качественно разных систем координат и векторов развития ими предопределяемых, т.е. речь идёт о выборе особенностей образа жизни, городской ментальности. Основное правило здесь: прежде чем отказаться от варианта, его необходимо тщательно рассмотреть и проанализировать мотивы, по которым тот или иной вариант отвергается. Истолкование вариантов в принципе гипотетично, поскольку с течением времени оценка избранного пути может радикальным образом измениться не только у современников принятия решения, но и, что ещё более вероятно, у их потомков. Противоречие заключается в том, что выбор субъективного варианта развития города или территории (ТЗ — технического задания) происходит на основе объективных данных анализа функционирования этой территории. Всё дело в интерпретации.
Исследуя территорию по ряду параметров, т.е. делая информационные срезы, мы часто в итоге получаем механическую сумму вполне объективных показателей, которые никак не складываются в содержательное Целое. Практически это Целое мы расчленяем, переструктурируем, классифицируем, объединяем в группы и т.д., т.е. выполняем все те операции, которые и составляют суть традиционного подхода, но это всё сырьё. Для того, чтобы приступить к собственно проектной деятельности, необходимо ответить на базовые вопросы, которые были сформулированы в начале текста.
Обычно город, с которым имеет дело исследователь-проектировщик, исчерпал возможность эволюционного развития, поэтому требуется выбор качественно нового варианта развития. Это означает выбор нового вектора развития, предусматривающего либо воссоздание функционального и пространственного типа существования и соответствующего набора правил с опорой на традиционные типы освоения вмещающего ландшафта, либо достаточно радикальную его смену или трансформацию, с изменением качественных характеристик среды и использование иных правил «игры».
Надо понимать, что любой выбранный вариант развития, по определению, не может быть единственно возможным — жизнь сложнее любых проектных гипотез, и эта «неединственность» является, по сути, базовым положением проекта прогноза развития территории ещё на стадии написания технического задания. Многовариантность определяется не только пониманием субъективности выбора правил и характеристик, по которым анализируется территория, но и ветвлениями вектора развития в точках неизбежного выбора качественных изменений среды. Структура параметров, входящих в модель развития, например, выбор экстенсивного или интенсивного варианта развития, выбор тех или иных градоопределяющих положений порождают варианты, имеющие качественно новые особенности. Например, принятие концепции «провинциального русского города» в качестве граничного условия технического задания никоим образом не стыкуется с типом многоэтажного многоквартирного жилого дома, даже если опустить вопросы, связанные со стилистикой. Это касается всех его аспектов, от градостроительной вариабельности до эксплуатационных характеристик, но, что гораздо важней, социально-культурного эффекта воздействия на ментальную культуру реального города. Естественно, что градостроительные системы, образованные типом жилой архитектуры, связанной с созданием микрорайонов, жилых групп или «укрупнённых кварталов» приведут к радикальному и безвозвратному разрушению облика города. Что, собственно, и наблюдается в сегодняшней градостроительной практике.
Точки на траектории эволюционного развития, в которых возникает веер радикально новых возможностей (точки бифуркации), имеют принципиально важное значение для процесса проектирования, или скорее прогнозирования развития города или территории.
Эволюционный вариант отображает традиционный подход к проектированию и управлению развитием территории — набор проектной документации в виде традиционного генплана (или его имитации под названием «стратегии или концепции развития») и является, по сути, реализацией идеи простой экстраполяции. В идеале такой процесс должен происходить через медленное, постепенное изменение параметров среды и не должен сопровождать- ся одномоментными, радикальными и масштабными трансформациями городской среды. В то же время в реальности появление в рамках эволюционной модели развития таких крупномасштабных новаций, как спальные районы, по своим количественным характеристикам (не качественным!) соответствующим новым квазигородским образованиям, свидетельствуют о тотальном непонимании проектировщиками взаимодействия качественных и количественных характеристик изменения среды. Тренд линейного развития не означает механистического увеличения элементов среды и их физических размеров — было два «спальных района», стало десять, не означает продолжение существующего направления развития города. Это будет уже нечто абсолютно новое: исторический город становится всего лишь элементом, включённым в систему, сконструированную из гигантских жилых массивов, лишённых всякой идентичности и транслирующими эту «внеидентичность» непосредственно на жителей города, успешно деформируя их ментальность.
В результате проектный документ — генплан, казалось бы, опирающийся на эволюционный подход к развитию города и прилегающей территории (пригорода), оперирующий понятиями моделирования, строгой оценки принятых градостроительных решений и их последствий выступает как фактор радикальной и непредсказуемой трансформации города. Можно сказать, что имеет место реализация искусственно сформированной точки бифуркации, имеющей тем более негативные последствия, чем большие технологические возможности концентрируются в руках её авторов и исполнителей.
Традиционное градостроительство предполагает, что при осмыслении прошлого и настоящего города возможно и прогнозирование его будущего. Для этого достаточно выявить сложившуюся тенденцию изменения ряда основных характеристик, например такую как динамика изменения демографической ситуации, экстраполировать и заложить в генеральном плане соответствующие физические характеристики среды. При этом возникает коллизия: временной лаг реальных изменений, даже по предельно ограниченному набору параметров (демографических в данном случае) в реальной жизни территории будет значительно короче, чем приня- тый для реализации генплана. Разумеется, существует процедура корректировки генерального плана, но она часто больше походит на его основательное переделывание, часто с повторением исходного результата. Ведь базовые принципы работы с городом остаются неизменными, он продолжает восприниматься исключительно как набор технологий жизнеобеспечения, но не Жизни. Второстепенные факторы замещают главное содержание вплоть до его полного исчезновения из сознания проектировщика.
Такой подход в лучшем случае даст прогнозируемое состояние территории только на самый небольшой срок, любые попытки реализовать его в более-менее отдалённой перспективе обречены на провал, поскольку такая система не включает в себя, в том числе, и ещё не существующих явлений, возникающих в процессе развития жизни города.
Например: количество автомобилей в личной собственности сегодня превышает нормативную в несколько раз, но до сих пор при разработке проектной документации руководствуются именно нормативами — результат всем известен! И это самый простой из примеров, который можно описать в простой табличной форме. Что же делать, когда речь заходит о таком малоформализуемом понятии, как «качество жизни», или совсем уже «литературном» — «город в котором хочется жить»?
В какой-то момент времени система — Город входит в состояние выбора варианта пути развития, при этом мы не можем в принципе предсказать этот вариант, поскольку выбор его может спровоцировать появление ещё не существующего фактора, или бесконечно сложных комбинаций нескольких факторов. Очевидно, что возможно лишь прогнозирование самого процесса выбора варианта и заложенная в программе развития Города (не генплане!) градостроительная вариабельность — тот пространственный и функциональный «люфт», который позволит достаточно безболезненно вместить новые, неизвестные процессы в существующую систему — Город.
Такой документ может называться мастер-планом, концепцией развития или стратегией развития, хотя, как правило, то, что под этим подразумевается на практике — всё тот же несколько завуалированный генплан в предварительной стадии проработки. Следовательно, это даже по своему звучанию должно быть чем-то иным, например Техническим заданием на разработку Концепции развития, опирающимся исключительно на качественные характеристики. Эти характеристики принципиально не могут быть выражены в виде чертежа, схемы или таблицы, а, скорее, в пространственных образах, в которых отображается ментальность Города. Именно в ней заложены побудительные мотивы всех изменений.
Для современного градостроителя это будет очень непривычный документ.
Многофакторный и структурный анализ остаются единственным действенным инструментом в разработке и технического задания, и стратегии развития, и проектной концепции.
Историко-генетический анализ в ряду других методов занимает особое место, поскольку позволяет выявить связь всякого последующего состояния среды с состоянием предыдущим и сформулировать гипотезу о состоянии в прогнозируемом будущем. Кроме того, историкогенетический анализ позволяет выявить исторические точки бифуркации, которые оставили следы на территории. Это означает, что возможно восстановить сценарии развития в прошлом этой территории, что, несомненно, важно для понимания её сегодняшнего и будущего состояния. Однако главным результатом такого исследования может стать понимание этнокультурной идентичности конкретной территории или города. Как самостоятельная и основная такая задача никогда не стояла перед современным градостроительством. Как правило, этот метод в структуре генплана решал простую задачу фиксации «памятников истории и культуры», отвечающих определённым параметрам и предпочтениям. Историко-культурный опорный план, как результат применения этого метода, часто содержал достаточно своеобразный набор «памятников». Например, во времена существования СССР в таком плане города Фрунзе, ныне Бишкек, в качестве памятника истории и культуры значился дом, в котором жил второй секретарь крайкома КПСС, и не был включён ряд объектов 20–30 гг. ХХ в.
Чрезвычайно редко, уже как сверхзадача формулировалось «сохранение художественного образа города», но только в рамках предложенного проектного решения, как правило, консервирующего город на избранный проектировщиком момент в его истории. Современная жизнь горожан в таких проектах находит малое отражение, и, например, традиционный русский город представляется в лучшем случае в виде панорам составленных из бесчисленного количества колоколен и церквей с золочёными куполами. А в худшем — в виде глубоко провинциального прочтения небоскрёбов Манхэтена, перенесённых, например, на московскую почву.
То, что в конечном итоге любые варианты развития пространственной структуры города есть отражение предпочтений живущих на ней людей, в современной градостроительной практике практически не учитывается. В Градостроительном кодексе, правда, есть положение о публичных слушаниях, но даже в идеале они происходят уже после разработки градостроительной документации. В этом отношении роль социологии, культурологии и близких к ней дисциплин в практической работе с городом уже на стадии принятия решения весьма высока, если не определяющая. Эти дисциплины позволяют выявить разные смысловые уровни идентичности: социокультурный, этнокультурный, исторический, природного комплекса и т.д. Это фиксируется в стадии технического задания на проектирование как граничные условия. Поскольку все эти смысловые слои, в конечном итоге, демонстрируют опыт обживания территории этносом, либо последовательностью сменяющих друг друга этносов 6, в исторической ретроспективе они позволяют ещё на стадии выработки технического задания реализовать приём «от противного», доказательно отбраковывающий те или иные варианты.
На практике реализация нового вектора развития может проявляться в достаточно небольших по своим геометрическим характери- стикам объектах. При этом единственно, что их объединяет,— это то, что они все являются в той или иной степени средовыми, т.е. существуют в тесном взаимодействии с окружающей средой и активно влияют на неё. Такого рода объекты играют роль и катализаторов изменений в среде, и образцов для подражания, но, главное, они демонстрируют (визуализируют) предлагаемые качественные изменения среды в новых социально-культурных условиях. Их небольшие физические размеры позволяют безболезненно апробировать варианты развития.
Наиболее показательна в этом отношении идея пешеходных улиц, которая не просто предоставляет горожанину возможности пройтись по улице, не рискуя попасть под машину. Всё гораздо серьёзнее: во-первых, пешеходная улица возвращает город горожанину, значительно потеснив транспорт; во-вторых, реализует демонстрационный вариант идеи города без машин; в-третьих, возвращает городским пространствам человеческий масштаб; в-четвёртых, воссоздаёт утерянное в современном городе пространство человеческого общения, меняя поведенческие стереотипы; в-пятых, создаёт для проектировщика (урбаниста, градостроителя, сити-менеджера) новую парадигму городского пространства со всеми вытекающими проектными и управленческими новациями. Можно привести ещё достаточно много отдалённых и близких последствий в результате появления в современном городе феномена пешеходной улицы, но это отдельная тема.
Главное положение, которое определяет все последующие профессиональные действия по отношению к городу как Целому, заключается в том, что именно люди, или «целевая аудитория» являются той силой, которая, собственно, и осуществляет выбор варианта развития, творя историю Места и его облик.
(продолжение следует)
Список литературы Введение в историческую антропологию города
- Глазычев В. Л. Архитектура. М., 2002.
- Глазычев В. Л. Урбанистика. М., 2008.
- Глазычев В. Л. Город без границ. М., 2012.
- Глазычев В. Л. Управление территориальным развитием, М., 2015.
- Гуревич А. Я. Категории Средневековой культуры. М., 1972.
- Каганов Г. З. Санкт-Петербург: образы пространства. СПб., 2004.
- Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Лотман Ю. М. Избранные статьи в трёх томах. Т. I. Tаллин, 1992.
- Gurevich A. Wealth and Gift-Bestowal among the ancient Scandinavians // Gurevich A. Historical Anthropology of the Middle Ages. Cambridge, 1992. P. 1992 (впервые статья была опубликована в 1968 г.).
- Levi-Strauss C. Anthropologie structurale. P., 1958.