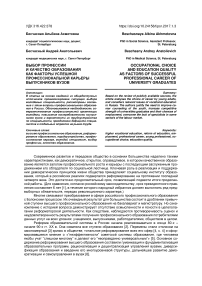Выбор профессии и качество образования как факторы успешной профессиональной карьеры выпускников вузов
Автор: Бесчасная Альбина Ахметовна, Бесчасный Андрей Анатольевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе сведений из общедоступных источников проанализирована ситуация выбора молодежью специальности, рассмотрены связанные с этим вопросы профессионального образования в России. Обосновывается необходимость совершенствования профессиональной ориентации молодежи, повышения востребованности выпускников вузов и вероятности их трудоустройства по специальности, преодоления дефицита специалистов в отдельных отраслях на рынке труда.
Высшее профессиональное образование, реформирование образования, трудоустройство, профессиональная карьера, молодой специалист, выбор профессии, качество образования
Короткий адрес: https://sciup.org/14938762
IDR: 14938762 | УДК: 316.422:378
Текст научной статьи Выбор профессии и качество образования как факторы успешной профессиональной карьеры выпускников вузов
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Современное развитое и передовое общество в сознании большинства наделено такими характеристиками, как демократичное, открытое, справедливое, в котором качественное образование является залогом профессионального роста и карьеры с последующим заслуженным продвижением его обладателя по социальной лестнице. Ключевая роль в реализации и поддержании демократических принципов жизни общества принадлежит социальному институту образования, который в российских реалиях подвергался реформированию на протяжении последней четверти века. Это достаточно продолжительный срок, позволяющий подвести итоги проделанной работы. (Для сравнения, согласно российскому законодательству, срок президентского правления составляет 6 лет [1], в течение которого народный избранник должен выполнить ряд предвыборных обязательств, нередко революционного характера.)
Многие связывают преобразования в сфере российского профессионального образования с Болонским процессом. Их очевидный результат для большинства состоит в дроблении привычной ступени высшего профессионального образования на бакалавриат и магистратуру. Но ознакомление с историей вопроса демонстрирует отсутствие осмысленности и ясности в целеполагании реформаторской деятельности. Как следствие, наблюдаются противоречивость оценок и неудовлетворенность результатами получения профессионального образования потребителями данных услуг на всех уровнях: учащимися, выпускниками, работодателями, обществом в целом.
Реформа образовательной системы в России начала реализовываться в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. Она охватила все ступени образования [2]. Перемены стали откликом на закономерный [3] кризис в обществе, тотальное реформирование всех его сфер [4, с. 4] и сформировавшееся мнение о «“неэффективности” советской системы образования, где человека якобы учат “слишком многому” и делают его “неоправданно универсальным”» [5]. Основное содержание реформирования высшего образования составили гуманизация и фундаментализация образовательных программ, рационализация и децентрализация управления вузами, диверсификация образования и введение его многоуровневой структуры, дальнейшее развитие демократизации и самоуправления в вузах [6].
Стремление к перестройке существовавшей системы образования в России и желание сделать ее соответствующей зарубежным стандартам отразились в попытках формирования двухуровневой системы профессионального образования уже в начале 1990-х гг.: в 1992–1993 гг. МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭА им. Г.В. Плеханова стали проводить эксперименты по подготовке отечественных бакалавров и магистров [7, с. 146]. Данные события носили значительно опережающий характер, так как в действующий Закон РФ № 3266-1 «Об образовании» (1992 г.) поправки о реструктуризации программ ВПО (программы бакалавриата, программы подготовки специалиста и программы магистратуры) были внесены лишь в 2007 г. [8]. Узакониванию данных поправок способствовало следование России Болонской декларации, принятой 19 июня 1999 г. Одним из основных положений данного соглашения являлось принятие системы сопоставимых степеней (ступеней): преддипломная (undergraduate, предполагающая обучение не менее трех лет) и последипломная ((post)graduate, магистр и (или) доктор) [9]. Дальнейшее законодательное утверждение ступеней высшего образования произведено в 2012 г. в ФЗ № 273 «Об образовании в РФ».
Важным тезисом в тексте Болонской декларации в свете рассматриваемой проблемы является вывод о том, что подготовка (т. е. образование) должна «давать возможность трудоустройства» и быть «свидетельством квалификации соответствующего уровня» («be relevant to the European labour market as an appropriate level of qualification») [10].
Результатом перманентного реформирования и либерализации российского образования стали трансформации в обществе. Некоторые из них не соответствуют декларировавшимся ранее целям. С одной стороны, получение высшего образования преобразовалось в обыденности и сознании людей в заурядное и довольно доступное явление и достижение. Так, по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (The Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), в 2012 г. Россия заняла первое место в мире в рейтинге стран по числу людей с высшим образованием в возрасте от 25 до 64 лет (54 %), оставив позади Канаду, США, Израиль и другие европейские страны (по данным портала newsru.com). 32,2 % занятых в экономике России имеют высшее образование, в Москве их почти 50 %, в Санкт-Петербурге – больше 40 % [11]. Такая ситуация порождает как конкуренцию между выпускниками на рынке труда, так и соперничество между самими университетами: за лучших преподавателей и студентов, а значит – за будущих работодателей выпускников.
С другой стороны, в любой открытой случайным образом публикации в СМИ последних лет, касающейся результатов вступительных экзаменов в вузы, проблем трудоустройства либо обеспечения реального сектора экономики квалифицированными специалистами, наблюдаем одни и те же сентенции: «Абитуриенты продолжают выбирать невостребованные профессии» (Петрова К. РБК-daily. 21.11.2011), «Многие вузы выпускают не тех специалистов, которые нужны» (Ливанов Д. РБК-daily. 21.08.2013) «Российская молодежь по-прежнему не идет в инженеры» (РБК-daily. 22.08.2013), «Через несколько лет производство в России встанет: не хватает инженеров» (Евстигнеева А. РБК-daily. 26.09.2013).
Вместе с тем в последние годы в экономической и социологической литературе высказывается озабоченность состоянием интеллектуального потенциала российского общества [12]. При этом особое значение уделяется его оценке в контексте развития рынка образовательных услуг и рынка труда. Устойчивость структурной безработицы в России все чаще объясняется не-конгруэнтностью двух названных рынков. Решение этой проблемы усматривается в необходимости их согласования [13].
Сложилась парадоксальная ситуация: профессиональное образование стало одним из факторов разбалансированности рынка труда, что проявляется, во-первых, в регрессе профессионально-квалификационной структуры рабочих мест в результате превращения экономики в сырьевую и усиления ее торгово-посреднического характера (преобладание профессий обслуживания и простых рабочих профессий); во-вторых, в растущей невостребованности «интеллектуального потенциала», вследствие чего выпускники вузов становятся главным источником безработицы; в-третьих, в быстром распространении такой социальной аномалии, как «работа не по специальности» [14].
Современная динамичная действительность диктует новую реальность – профессиональное образование не должно слепо следовать за спросом текущего рынка труда, оно должно развиваться по формуле опережающей потребности. Общество призвано иметь «чистый» интеллектуальный потенциал, прежде всего научно-технический, свободный от спроса нынешних работодателей для будущего прогресса. Однако то, что произошло с высшим образованием за последние годы, явно противоречит формуле формирования указанного потенциала [15].
По мнению А.Н. Кочетова, сложившиеся в стране рынок образовательных услуг и рынок труда нельзя согласовать в принципе. Рынок образовательных услуг в сфере основной профессиональ- ной подготовки создает ложную систему спроса. Он подменяет спрос на рабочие места потребностью населения в вузовских дипломах в соответствии со сложившейся в общественном сознании престижностью профессий и занятости. В этом случае структура профессионального образования неизбежно деформируется, а предложение на рынке труда противоречит спросу на него [16].
Как отмечает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко на примере инженерных профессий, «мало призывать идти в инженеры и готовить инженеров – они еще должны быть постоянно и массово востребованы на рынке труда», что достаточно сложно просчитать. Поэтому расчет на краткосрочный период, основанный на сроках и затратах, необходимых для подготовки экономистов и юристов, оказывается предпочтительным: «…Подготовка …экономистов или юристов… будет процветать» [17].
Динамизм развития общества, возникновение новых отраслей экономики и отмирание прежних (индустриальных) профессий активно трансформируют спектр профессий и уровень необходимой квалификации по ним. Ректор РАНХиГС при Президенте РФ Владимир Мау замечает, что «за пять-шесть лет получения высшего образования появляется немало профессий, которых на момент поступления в вуз просто не существовало», а «динамизм современной экономики, в которой постоянно возникают новые сферы деятельности и профессии, обусловливает необходимость постоянного изменения квалификации, непрерывного образования и адаптации к новым вызовам. Человек, не способный постоянно учиться, оказывается в стороне от прогресса и не может считаться успешным» [18].
Таким образом, происходит коренная трансформация сфер и характера профессиональной занятости, что свидетельствует и о структурной перестройке экономики и смене эпох, основанной, если следовать логике К. Маркса, на обновлении производственной базы. Перестройка отраслевой структуры экономики развитых стран, переход от массового производства к гибкой системе занятости сопровождаются дифференциацией рынка труда на различные сегменты. Выделяют «внутренний» – «первичный» и «вторичный» сегменты (дифференцированные по критериям заработной платы, условий работы, стабильности, возможностей карьерного роста наемных сотрудников), «внешний» – рынок внештатных сотрудников (фриланс) и «сетевой рынок труда» (те, кто работает через информационно-коммуникационные сети) [19, с. 35]. Традиционные формы работы, трудовой деятельности, профессиональной карьеры, основанные на занятости в течение полного нормированного рабочего дня и рабочей недели, долгосрочная и гарантированная трудовая занятость уходят в прошлое. (Свидетельством этого выступают многочисленные и длительные акции протеста во Франции в 2016 г., вызванные изменениями в трудовом законодательстве, упрощающими взаимодействия между работодателем и наемным сотрудником не в пользу последнего.) Работник «добровольно-принудительно» становится безработным с высоким потенциалом потребления и, как отмечает Зигмунд Бауман, даже не вливается в «резервную армию труда», так как в условиях модернизации производства и оптимизации расходов не востребован даже в качестве потенциального производителя благ [20].
Подобного рода ситуация, хотя бы на уровне неопределенности и риска, толкает молодых людей к «работе не по специальности», что делает бессмысленным полученное образование и приводит к депрофессионализации. Чем больше людей приобретают профессию, не имеющую достаточного спроса, тем выше показатель депрофессионализации. В общественном сознании сложилось мнение, что такое явление, как «работа не по специальности», вполне нормальное и характерное даже для развитых стран. Важная поправка – только лишь как признак мобильности рабочей силы и отнюдь не в отношении вчерашних выпускников вузов [21, с. 85].
Молодежь сегодня сталкивается с серьезными трудностями на пути к трудоустройству в связи с существующими проблемами в образовательной сфере (Грабарь Я. Молодежная безработица: «потерянное поколение» век спустя. РБК-daily. 08.10.2013; Грабарь Я. Молодым не везде дорога: почему юноши и девушки не могут найти работу. РБК-daily. 10.10.2013; Развитые страны подхватили болезнь «третьих стран». РБК-daily. 19.07.2013). В ситуации экономического кризиса это положение только усуглубляется. Для первого успешного трудоустройства соискатель должен обладать определенным набором профессиональных знаний и умений, которые приобретаются в процессе образования. В России, как и в большинстве стран, качественное образование из-за его дороговизны оказывается недоступным. В тех же случаях, когда поступить в вузы гораздо проще, образовательный процесс очень часто оторван от объективных потребностей рынка труда. Например, престижными направлениями подготовки сегодня являются международные отношения, мировая экономика, менеджмент, социокультурные технологии, экзотические человековедение и конфликтология и т. п. Вряд ли рынок труда в ближайшие годы в состоянии ассимилировать именно этих специалистов и именно в таких количествах. (Проблема, впрочем, не носит исключительно российского характера. Анализируя данные по поступлению в по- следние годы в вузы Финляндии и Германии, приходим к выводу, что конкурс на обучение международной экономике или социологии явно превышает таковой на прикладные инженерные специальности. То есть именно на те, в специалистах которых достаточно давно обе страны весьма остро нуждаются.)
В попытках избежать положения безработного молодые специалисты часто вынуждены устраиваться на работу, которая требует заведомо более низкой квалификации. В отечественных магазинах, кол-центрах или на автостанциях трудятся дипломированные экономисты или разного рода менеджеры. Немалое количество молодых работников занято в теневой экономике. По различным данным, около 25 % трудоустроенной молодежи не оформляют свои отношения с работодателем в соответствии с Трудовым кодексом. В состоянии неопределенности пребывают около 20 % выпускников вузов, занятых фрилансом, который некоторые эксперты оценивают как своего рода потенциальную безработицу.
Согласно данным, представленным М. Шмаковым в 2013 г., молодежная безработица в России составляла 10 %. Доля молодежи в возрасте до 25 лет в общем числе безработных составляла примерно четверть, а средний возраст российского безработного был равен 35,6 года (РБК-daily. 17.07.2012). В СМИ приводятся и менее оптимистичные цифры. По данным опроса W-City.net, в 2015 г. каждый пятый молодой россиянин в возрасте до 25 лет не мог найти работу, а каждый третий сталкивался с проблемами при трудоустройстве. Текучесть кадров среди молодежи бьет все рекорды – свыше 45 % не задерживаются на рабочем месте и одного года (по данным newsru.com).
Тревожность и пагубность данной ситуации для общества и представителей молодого поколения охарактеризовал заместитель генерального директора Международной организации труда (МОТ) Х.М. Салазар-Ксиринакс: «Постоянно высокий уровень молодежной безработицы в долгосрочной перспективе сказывается на получении ценного опыта и негативно влияет на развитие профессиональных навыков. Более того, отсутствие работы в молодом возрасте ударяет в дальнейшем по зарплатным перспективам человека и его достатку» (РБК-daily. 08.10.2013).
Таким образом, проблема качественной профессиональной подготовки выпускников вузов и их востребованности в соответствии с динамичным характером изменений квалификационных требований и рынка труда обладает широким спектром последствий как для отдельной личности, так и для перспектив развития всего общества.
Суть проблемы невостребованности выпускников на рынке труда и их низкой профессиональной подготовки на личностном уровне, на наш взгляд, заключается в нарушении формирования профессионального самосознания, причем на всех его этапах, начиная с самых ранних: развития общекогнитивных и предметно-профессиональных интересов, начальной профессиональной ориентации и осознанного выбора сферы профессиональных интересов, профессиональной самоидентификации и профессионального совершенствования и т. д. Причем особенно страдает не столько когнитивный, сколько мотивационный компонент этих процессов.
Проблема усугубляется неоправданным, на наш взгляд, увеличением сроков (иногда доходящих до 9 лет) получения детьми дополнительного образования, которое также выполняет профориентационные функции (особенно ввиду большого привлечения временных и финансовых ресурсов семьи и обучаемого). В таком случае дополнительное образование по одному направлению, занимающее практически все школьные годы ребенка, лишает его возможности пробовать себя в период учебы в разных творческих областях, технических кружках и спортивных секциях, ограничивая, таким образом, предпочтения, обусловленные интересом и собственной мотивацией (не родительским наставлением). Согласно возрастным особенностям психологического развития, это как раз тот этап становления личности и будущего профессионала, когда процесс может быть полезнее результата, расширяя границы развития личности и делая дальнейший профессиональный выбор более осмысленным.
Скорее негативной представляется и ранняя, с пятого класса, школьная профессионально ориентированная специализация. Профессиональная мотивация в таком возрасте может не сформироваться даже в виде общей направленности. В сочетании с практикой минимизации количества сдаваемых школьниками испытаний ОГЭ и ЕГЭ и сосредоточения усилий на подготовке к их ограниченному количеству это приводит к необходимости сделать профессиональный выбор с первого раза, «без права на ошибку», и тогда пересмотреть и переоценить свои профессиональные интересы в старшей школе становится проблематичным. Поэтому необходимо вернуться к практике профориентационных мероприятий в школе, привлекая к ним работодателей и преподавателей специальных дисциплин учебных заведений.
Продолжение этой работы вполне уместно и в вузах во время преподавания курса введения в специальность, с приглашением представителей потенциальных работодателей. Благодаря данным мероприятиям облегчается профессиональная адаптация будущих выпускников в части преподнесения тонкостей индивидуального трудоустройства, построения карьеры. Как показывает практика, даже студенты старших курсов имеют довольно смутное представление об особенностях предстоящей работы, возможных размерах начальной оплаты труда и ее динамике. Не раз приходилось сталкиваться как с завышенными зарплатными ожиданиями молодых специалистов, так и с мнением об ущербности работы в российских компаниях, причем из уст выпускников остродефицитных сегодня специальностей, уровень и динамика располагаемых доходов в которых уже давно соответствуют среднеевропейским.
Другой стороной проблемы трудоустройства молодежи является низкая готовность выпускников к территориальной мобильности. Попытки трудоустроиться по специальности после окончания вуза в месте получения образования или постоянного проживания далеко не всегда успешны и целесообразны. Текущая потребность в специалистах определенного профиля может не совпадать с месторасположением вуза (особенно в условиях стремления к укрупнению вузов и сворачиванию их деятельности в регионах). Выпускников необходимо готовить к этому посредством развития системы трудоустройства молодых специалистов, мониторинга рабочих мест в российских регионах, подготовки соглашений о социальных гарантиях прибывающим специалистам. С этой целью необходимо проводить предварительную совместную работу с «удаленными» работодателями.
Уменьшение степени «витринности» во взаимоотношениях ведущих вузов и работодателей, снижение уровня претензий (по оплате труда практикантов и стажеров) со стороны высшей школы в вопросах организации мероприятий по производственным практикам студентов и трудоустройству выпускников также могут позитивно отразиться на перспективах привлечения к работе молодых специалистов. Получаемый на практике профессиональный опыт, использование полученных в вузе знаний и умений серьезно повышают конкурентоспособность будущего выпускника на рынке труда. В то же время для базового предприятия процесс обеспечения возможности прохождения студентами практики почти всегда затратен в связи с необходимостью освобождения части собственных сотрудников от их основных обязанностей с целью организации наставничества и обеспечения безопасности «временным» молодым специалистам.
Другим направлением работы, которое позволит скорректировать дисбаланс в отношениях между выпускниками вузов и работодателями, повысить привлекательность молодых специалистов в глазах работодателя, выступает пересмотр учебных планов и контента программ бакалавриата и магистратуры. Работодатель предполагает, что при найме на работу бакалавра он получает готового работника определенной специальности и квалификации. Оставшаяся же с советских времен парадигма подготовки специалиста отдает слишком большое количество часов учебной нагрузки на 1–2-м курсах общеобразовательным предметам в ущерб ценным профессиональным дисциплинам. Усилия по подготовке в высшей школе разносторонне образованных выпускников похвальны, однако сокращение времени получения высшего образования в бакалавриате все же должно сопровождаться углублением именно профессиональной подготовки, ее прикладного аспекта. Целый ряд безусловно необходимых дисциплин общенаучного и общегуманитарного характера должен, на наш взгляд, быть перенесен в магистерский этап получения высшего образования. Особенно если предположить, что со временем в России, аналогично Евросоюзу и Северной Америке, большинство выпускников вообще не будут переходить на магистерский уровень. Такой подход обеспечит качественное отличие между бакалавром и магистром, чего в настоящее время не ощущается.
Таким образом, проблема трудоустройства молодых специалистов – выпускников вузов имеет глубокие истоки и негативным образом сказывается на благополучии, развитии и социальном спокойствии в обществе. Труд – это ключевое условие формирования личности и развития общества, ценность, к сожалению в последнее время ушедшая с авансцены. Отсутствие у человека возможности к позитивному и конструктивному самовыражению приводит к деформации его личности, что в массовом масштабе может повлечь за собой усиление социальной напряженности, рост криминогенной ситуации, стагнацию в развитии общества и его застой. Поэтому логично, что эффективность деятельности вузов оценивается по показателям трудоустройства выпускников. Данный параметр должен стать основным, вокруг которого группируются и структурируются остальные, характеризующие не только результативность работы отдельного вуза, но и функционирование всей системы образования в целом.
Ссылки и примечания:
-
1. Об изменении срока полномочий Президента РФ и Государственной думы : федер. закон о поправке к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ.
-
2. Панкова Т.А. Реформирование системы образования в России 90-х годов : автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 1997.
-
3. «Закономерный» в силу объективности обстоятельств: необходимости своевременной модернизации производственных и научно-технических основ развития общества и подготовки для этих целей специалистов с обновленной квалификацией, а также бессмысленности идеологической насыщенности образования.
-
4. Родионов Д.Г., Рудская И.А., Кушнева О.А. Продвижение ведущих российских университетов в число лидеров мирового образования: анализ проблемы и пути решения // Общество. Среда. Развитие. 2013. № 4. С. 4–13.
-
5. Сергеев А.Л. Реформа образования в России: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] // Гражданская инициатива. URL: http://netreforme.org/news/reforma-obrazovaniya-v-rossii-problemyi-i-perspektivyi/ (дата обращения:
25.06.2016).
-
6. Образовательная реформа конца 80-х – начала 90-х гг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.best-peda-
gog.ru/shkola-i-obschestvennoe-doshkolnoe-vospitanie-v-rossii-v-kontse-xix-nachale-xx-v-borba-rsdrp-za-narodnoe-obra- zovanie/ (дата обращения: 25.06.2016).
-
7. Гретченко А.И. Болонский процесс: интеграция России в европейское и мировое образовательное пространство. М., 2009. 432 с.
-
8. Об образовании : закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1.
-
9. Гретченко А.И. Указ. соч. С. 146 ; Об образовании.
-
10. Ministerial Conference Bologna 1999 [Электронный ресурс]. URL: http://www.ehea.info/Up-
loads/about/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf (дата обращения: 25.06.2016).
-
11. Клячко Т. Новые университеты: как российское образование переживет кризис [Электронный ресурс]. URL: http://www.rbc.ru/opinions/society/24/02/2016/56cd9e649a79473144f75f4c (дата обращения: 16.06.2016).
-
12. Левашов В.К. Интеллектуальный потенциал общества: социальное измерение и прогнозирование // Социологические исследования. 2008. № 12. С. 25–36.
-
13. Иванова И. Рынок труда и рынок образования: как устранить дисбаланс? // Высшее образование в России. 2004. № 7. С. 3–10.
-
14. Кочетов А.Н. Профессиональное образование и рынок труда: проблемы взаимодействия // Социологические исследования. 2011. № 5. С. 82–90.
-
15. Там же.
-
16. Там же.
-
17. Клячко Т. Указ. соч.
-
18. Мау В. Человеческий капитал: вызовы для России [Электронный ресурс] // Вопросы экономики. 2012. № 7. URL: http://www.vladimirmau.ru/files/publications_in_mass_media/interviews/mau7-12.pdf (дата обращения: 16.05.2016).
-
19. Жвитиашвили А.Ш. Рабочий класс в постиндустриальном обществе // Социологические исследования. 2013. № 2. С. 33–42.
-
20. Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002.
-
21. Кочетов А.Н. Указ. соч. С. 85.
Список литературы Выбор профессии и качество образования как факторы успешной профессиональной карьеры выпускников вузов
- Об изменении срока полномочий Президента РФ и Государственной думы: федер. закон о поправке к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ.
- Панкова Т.А. Реформирование системы образования в России 90-х годов: автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 1997.
- Родионов Д.Г., Рудская И.А., Кушнева О.А. Продвижение ведущих российских университетов в число лидеров мирового образования: анализ проблемы и пути решения//Общество. Среда. Развитие. 2013. № 4. С. 4-13.
- Сергеев А.Л. Реформа образования в России: проблемы и перспективы //Гражданская инициатива. URL: http://netreforme.org/news/reforma-obrazovaniya-v-rossii-problemyi-i-perspektivyi/(дата обращения: 25.06.2016).
- Образовательная реформа конца 80-х -начала 90-х гг. . URL: http://www.best-pedagog.ru/shkola-i-obschestvennoe-doshkolnoe-vospitanie-v-rossii-v-kontse-xix-nachale-xx-v-borba-rsdrp-za-narodnoe-obrazovanie/(дата обращения: 25.06.2016).
- Гретченко А.И. Болонский процесс: интеграция России в европейское и мировое образовательное пространство. М., 2009. 432 с.
- Об образовании: закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1.
- Ministerial Conference Bologna 1999 . URL: http://www.ehea.info/Uploads/about/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf (дата обращения: 25.06.2016).
- Клячко Т. Новые университеты: как российское образование переживет кризис . URL: http://www.rbc.ru/opinions/society/24/02/2016/56cd9e649a79473144f75f4c (дата обращения: 16.06.2016).
- Левашов В.К. Интеллектуальный потенциал общества: социальное измерение и прогнозирование//Социологические исследования. 2008. № 12. С. 25-36.
- Иванова И. Рынок труда и рынок образования: как устранить дисбаланс?//Высшее образование в России. 2004. № 7. С. 3-10.
- Кочетов А.Н. Профессиональное образование и рынок труда: проблемы взаимодействия//Социологические исследования. 2011. № 5. С. 82-90.
- Мау В. Человеческий капитал: вызовы для России //Вопросы экономики. 2012. № 7. URL: http://www.vladimirmau.ru/files/publications_in_mass_media/interviews/mau7-12.pdf (дата обращения: 16.05.2016).
- Жвитиашвили А.Ш. Рабочий класс в постиндустриальном обществе//Социологические исследования. 2013. № 2. С. 33-42.
- Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002.