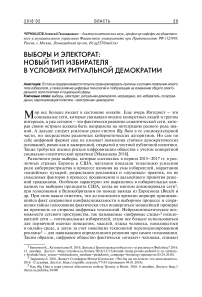Выборы и электорат: новый тип избирателя в условиях ритуальной демократии
Автор: Чернышов Алексей Геннадиевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка проанализировать причины и условия появления нового типа избирателя, а также влияние цифровых технологий и глобализации на изменение общего электорального поля политики и социальной сферы.
Выборы, электорат, ритуальная демократия, неграждане, экс-избиратель, полугражданин, маргинализация политики, "электронная" демократия
Короткий адрес: https://sciup.org/170168970
IDR: 170168970
Текст научной статьи Выборы и электорат: новый тип избирателя в условиях ритуальной демократии
Различного рода выборы, которые состоялись в период 2015–2017 гг. в различных странах Европы и США, наглядно показали тенденцию усиления роли киберпространства в процессе влияния на умы избирателей, нарастания «медийных» пузырей, разрастания рекламных и «шумовых» практик, но не смысловых факторов в процессе продвижения и дальнейшего принятия решений гражданами. Особенно характерно это выразилось в избирательных кампаниях по выборам президента США, когда во многом доминировали сети1, при голосовании в Великобритании по поводу выхода из Евросоюза (Brexit) и др. При этом важно отметить, что до последнего времени априори принимавшийся факт сохранения конфиденциальности в выборном процессе и сохранения тайны голосования фактически стал подвергаться мощнейшей проверке на прочность со стороны цифровых технологий. Нейролингвистические возможности сетевого пространства, так называемые «цифровые следы»2 пользователей сети – потенциальных избирателей, стали все больше использоваться для первичной оценки поведения, мыслей, языка человека, находящегося в онлайн-среде, а затем за счет новейших технологий персонализированной рекламы3 – для навязывания определенного решения при самом голосовании. Таким образом, цифровое общество фактически «оголяет» человека, снимает с большинства покров тайны внутреннего волеизъявления, делает его публичным субъектом процесса вне зависимости от желания самого тестируемого. Это, в свою очередь, приводит к появлению нового типа избирателя, лишенного ореола закрытости, как это было ранее, т.к. за ним теперь «следят» в режиме онлайн. Все эти обстоятельства, в свою очередь, требуют самого пристального внимания к законодательному обеспечению прав граждан на сохранение конфиденциальности при проведении выборов. Как обеспечить реальное неразглашение мнения избирателя при принятии того или иного решения, которое оказывается дезавуированным самим фактом нахождения человека в сети, появления разных технологий типа психологического микротаргетирования?1
Сегодняшний портрет избирателя меняют не только информационные технологии и цифровое пространство. Глобализация мира, смена общественно-экономических формаций могут привести к еще более непредсказуемым последствиям с точки зрения статуса и роли гражданина, участвующего в выборном процессе.
Одним из таких «разрушительных» факторов классического формата избирателя является урбанизация. Глобализация срывает с насиженных мест огромные массы вчерашних земледельцев и делает их фактически «кочевниками». Сегодня это пласты людей, уже лишенных своих прежних корней и не нашедших еще новой опоры и «символа веры». В сущностном плане они оказываются заложниками такой ситуации. Им приходится выбирать, исходя не из своего прежнего ментального и культурного фактора, и даже не по указке конкретной власти или лидера, а следуя лишь логике лояльного вписывания в новую среду обитания и выживания в ней. Тем самым маргинализируются не только сами бывшие избиратели, которые ранее голосовали «от земли», но и сам выборный процесс, потому что он получает новый тип избирателя с точки зрения ценностных ориентаций. «Синдром сельских парней» [Барзилов, Чернышов 2005] становится фактором городской политики с непредсказуемыми последствиями, а также открывает новые возможности для манипуляций над вновь прибывшими и «подключившимися» к урбанистическому сегменту сети.
Глобализация нарушает и меняет прежний ареал обитания не только сельских жителей. Существенным фактором «обновления» черт избирателя стали мощные миграционные процессы. Если анализировать в этом смысле европейские и российские реалии, то можно заметить, как меняется социально-политический, а вместе с ним и избирательный ландшафт. В Европе – это массы людей, которые прибывали и прибывают на протяжении последнего десятилетия на континент, в традиционные страны западного мира из Африки и Азии, в России – поток людей из стран бывшего Советского Союза. Часть из них успели получить гражданство и пытаются освоиться на новой территории, заявить о своих гражданских правах, влиться в общий процесс. Другая часть – неграждане, включая беженцев, – оказывается вне сферы избирательных процедур. Они зачастую не ассимилируются и не адаптируются к новой среде, а увеличивают число анклавов, живущих по собственным законам. Однако самим фактом своего пребывания на чужой территории они оказывают все большее влияние и на решения коренных граждан. Признание факта краха политики мультикультурализма в своей основе еще не дает нам шанс зафиксировать будущее развитие процесса. В своей констатирующей части сам мультикультурализм оказывается оружием внешнего воздействия и корректировки политики конкретного суверенного государства, смены идеологических и культурно-исторических приоритетов развития отдельной страны. Наблюдается кардинальное смещение базовых ценностных основ выборов как таковых за счет постановки во главу угла интересов не коренных народов, проживающих на данной территории, а пришлых (приезжих мигрантов и гастарбайтеров).
В каком-то смысле приезжие пока еще нужны политикам для большей легитимации своей власти. Последние предоставляют вид на жительство и дают (обещают) получение гражданства. Первые проявляют лояльность к новой власти, тем самым обеспечивая ей ко всему прочему повышенный ореол демократичности. Однако это путь к расширению числа маргинальных избирателей – колеблющихся, не примыкающих к постоянному электорату, непредсказуемых в своих поступках и выборе, в своем «пофигизме» и скрытом протесте против действующих порядков. Это избиратель вроде бы не 2-го сорта, но и не полноценный участник избирательного процесса, с мнением которого нужно обязательно считаться, корректируя последующую программу действий. Теперь избираемый не особо-то и хочет объяснять свою позицию, подводить под нее четкую логическую доказательную базу, как это должно быть в реальности. Он вообще не видит своего потенциального избирателя в качестве единомышленника, с которым можно и нужно выстраивать равноправный диалог. Тем самым традиционный избиратель на своей собственной территории вместе с прибывающими извне превращается в полугражданина с размытыми правами, «нищеброда» с точки зрения социального статуса.
На самом деле это путь по «изъятию» из избирательного процесса самого человека. Резко снижается поле деятельности самостоятельного, критически мыслящего избирателя и увеличивается зона для «автоматического» арифметического голосования. У молодого поколения формируется дополнительный плацдарм для развития «дикого» космополитизма и, тем самым, отказа от родовых корней. В свою очередь, это питательная среда для неконтролируемого роста радикализма и хаотизации всего выборного процесса как такового. Такая ситуация отказа от системного взгляда на рассматриваемый предмет ведет к расширению элементов управляемого хаоса, когда внешние игроки, в т.ч. держащие в своих руках ниточки от интернет-ресурсов и больших информационных данных, получают фактически неограниченные возможности тотальных манипуляций в угоду своим политическим или экономическим интересам.
Возникает феномен, связанный с «новым» отношением избираемого к своему электорату. Всеми доступными средствами технологического воздействия избирателя принуждают поверить на слово в некую данность, сформированную под «вылизанную» виртуальность. «Отфотошопить» действительность становится более важной задачей, нежели писать программу действий и реально выполнять взятые на себя обязательства и предвыборные обещания.
Таким образом, подход становится все более утилитарным и циничным, подразумевающим обязательное наличие выгодополучателя социальных благ, стремящегося занять доминантное положение на лестнице в финансово-политической табели о рангах. Служение общественному благу в этом смысле отодвигается на задний план и вообще растворяется в угоду материальным меркантильным интересам.
В условиях усложнения мира логично было бы предположить усиление потребности в расширении социально-политических практик и применении новых социальных технологий. Однако все происходит с точностью до наоборот: парадоксальным образом наблюдается тяга к упрощениям и унификациям сложных, нестандартных систем. Сутевой выбор с легкостью меняется на режим ток-шоу, вербовку голосов путем «сладкого пряника». Тем самым показывается все более наплевательское отношение к своему потенциальному избирателю.
Существенным фактором влияния на качественные характеристики современного избирателя является гремучая смесь глобализации, цифровизации и технологизации общественных процессов [Чернышов 2017] при одновременном забвении нравственных и культурных императивов.
Выбранная парадигма – парадигма роботизации с абсолютизацией прибыли и повышением производительности труда любой ценой. Это экономика «суперкапитализма»1, в которой капитал генерирует все доходы, а труд – почти никаких, он вообще практически не нужен. Средний класс медленно, но верно исчезает и опускается на уровень низкодоходной группы. И это в условиях мощнейшего тренда и потребности в формировании общества знаний. Робот «убивает» квалифицированного рабочего и инженера и парадоксальным образом расширяет сферу деятельности маргинальных и неквалифицированных работников. У промышленных работников не только мало надежд на будущее, но у них исчезает и настоящее, потому что производство все меньше и меньше нуждается в присутствии человека. Неквалифицированный «полугражданин» с усеченными правами, идущий к избирательным урнам, – это явно избиратель иного рода, иных мотиваций, иного сохранения смысловых и ценностных ориентаций (если таковые вообще формируются). Часть людей, оказавшихся в роли неграждан, пытаются вернуть себе прежние права и статус. Однако растет и число нового класса [Стэндинг 2014] – прекариата2, существующего в режиме постоянной нестабильности, для которого характерны неопределенные и случайные финансовые и профессиональные перспективы. Прекариат может превратиться в разрушительную силу, если не будет реализована концепция безусловного базового дохода, т.е. гарантированного государством денежного довольствия каждому гражданину. Уже сегодня прекариатизация трудовых ресурсов рассматривается как симптом прогрессирующей социальной деградации. Для мира политики, т.е. и для самой власти, это означает сокращение социальной базы действующего режима [Тощенко 2017], а значит и смену социально-политического пространства и сферы деятельности гражданского общества и выборных процедур.
В условиях тренда на роботизацию может оказаться так, что сам человек утратит свою сакральность, в т.ч. и как основного актора выборного процесса. На смену живому субъекту права придут роботы, для которых сам смысл выборов теряет всякую актуальность и значение. А раз так, то будущему обществу не нужны будут и избиратели, если такое развитие событий приобретет необратимые формы. Если ценность самого человека будет нивелирована «умной» машиной, то об экс-избирателе будут вспоминать, как об анахронизме. Да и то, наверное, это будет лишь искусственный интеллект.
Речь в данном случае не идет о том, что нужно останавливать прогресс и идти на попятную с точки зрения технической революции. Вопрос заключается в мере допуска машин в человеческую жизнь, осмыслении того, что техноло- гии должны помогать человеку в его жизнедеятельности, а не вести к замене человека машиной. В противном случае социальные категории будут полностью заменяться на биологические, а человек из творца природы и высшего ее представителя перейдет в категорию биологической массы1. Соответственно, в том же формате будет видоизменяться и портрет избирателя.
Иной формат практик – это формирование подлинного общества знаний с обязательным нравственным императивом. В условиях, когда на этику и добродетель правящего класса особо рассчитывать не приходится, гражданам самим нужно задуматься о формировании экспертного гражданского горизонтального сообщества глобального типа [Чернышов 2018: 182-201]. В современной ситуации все большей закрытости элит, стремления ее к кастовости, отгораживанию от общества для жизни в «заоблачных» мирах «на национальном уровне именно народ в целом должен заботиться об интересах и благосостоянии народа в целом» [Стаут 2009: 397], т.е. самого себя, чтобы весь прогресс цивилизации вел к действительному освобождению человека от рутинного труда и расширял свободное время для интеллектуального труда и творчества, а не превращал гражданина в современного раба, где не будет места выборам как таковым.
Вместе с тем нужно особо отметить тот факт, что никто не отменял важность понимания роли личности в истории, которая ведет массы за собой. Онтология истории красноречиво свидетельствует, что без сильного волевого личностного начала, без национального лидера создание биографии конкретного народа немыслимо. Это особенно важно в современных условиях, когда рушатся многие прежние схемы человеческого бытия, существовавшие в режиме классового общества и национальных государств. Переход к новым, пока еще до конца не оцененным и не понятым практикам развития общественно-экономических формаций накладывает на лидера конкретного суверенного государства и элиту обязанность «увидеть» процесс развития событий за рамками short term 2, предвидеть воплощение своих замыслов относительно того народа, в рамках которого он находится. С точки зрения развития глобального пространства – это еще и возможность играть вместе со своими гражданами, которые держат лидера на своих плечах, вполне определенные мессианские роли. И особую ответственность за такое предназначение выстраивания общей судьбы, в которой есть место созидательным началам, несет первое лицо государства. А выборы – это не «ритуальные танцы» с бубенцами, реализуемые путем хитроумных комбинаций кабинетных политтехнологов в рамках фантомного государства [Исаев 2017: 124], а право граждан вместе со своей элитой реально выбирать свою судьбу, используя принцип солидарного развития, создающий основы фундаментальной справедливости.
Список литературы Выборы и электорат: новый тип избирателя в условиях ритуальной демократии
- Барзилов С.И., Чернышов А.Г. 2005. Безумство власти: Провинциальная Россия: 20 лет реформ. М.: Ладомир. 298 с
- Исаев И.А. 2017. Суверенитет. Закрытое пространство власти: монография. М.: Проспект. 160 с
- Малышева Г.А. 2018. О социально-политических вызовах и рисках цифровизации российского общества. -Власть. № 1. С. 40-46
- Стаут Дж. 2009. Демократия и традиция. М.: Прогресс-Традиция; ИД «Территория будущего». 464 с
- Стэндинг Гай 2014. Прекариат. Новый опасный класс. М.: Ад Маргинем. 328 c
- Тощенко Ж.Т. 2017. Новое в социальной структуре общества: прекариат. -Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. № 2. С. 100-108
- Чернышов А.Г. 2017. Цифровизация и технологизация общественной жизни как социально-политическая проблема: сохранение идентичности и реальные задачи управления и роль государства в условиях развития глобальных сетей. -Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. Т. 40. С. 320-329
- Чернышов А.Г. 2018. Власть как «вечный» двигатель. М.: Проспект. 306 c