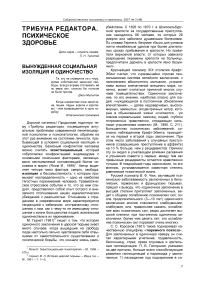Вынужденная социальная изоляция и одиночество
Автор: Семке В.Я.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Трибуна редактора. Психическое здоровье
Статья в выпуске: 3 (46), 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14295202
IDR: 14295202
Текст статьи Вынужденная социальная изоляция и одиночество
Те, кто не стремится ни к чему, кроме собственной законной свободы, всегда вправе отстаивать её по мере сил, сколько бы голосов ни было против.
Джон Мильтон
Когда шахматная игра закончена, пешки, ладьи, короли и королевы – все возвращаются в одну коробку.
Итальянская поговорка
Дорогой читатель! Продолжая годичную тему «Трибуны редактора», посвященную актуальным проблемам современной пенитенциарной психологии и психопатологии, обратим на этот раз внимание на состояние личности, пребывающей в условиях социальной изоляции и одиночества. Базисным конфликтом человека можно считать экзистенциальный , который «обусловлен конфронтацией индивидуума с основными конечными факторами, являющимися неотъемлемой составляющей бытия человека в мире» (Ялом И., 1999)1. Автор выделяет четыре таких фактора: смерть, свобода, изоляция и бессмысленность, к которым примыкает неопределенность – одно из наиболее тягостных переживаний человека. Травматическое стрессовое событие и то, что за ним следует, представляют собой опыт острого и внезапного столкновения наших идеалистических убеждений с реальностью. Отношение к страданиям в современном мире характеризуется тенденцией к избеганию, отстраненному отношению к ним, как к чему-то не имеющему отношения к жизни большинства людей; вселенским одиночеством в их переживании.
М. Гернет (1961)2 пишет о том, что история одиночного заключения в царской тюрьме знает много случаев, когда вышедшие на свободу люди настолько сильно чувствовали себя отвыкшими от самостоятельного существования и политической борьбы, что кончали жизнь само- убийством. С 1826 по 1870 г. в Шлиссельбургской крепости за государственные преступления находилось 98 человек, из которых 26 умерли или заболели душевными болезнями. По словам Гернета, безумие «было для узников почти неизбежным уделом при более длительных сроках пребывания в крепости. Но правители верховной власти, от которых зависело разрешение перемены крепости на больницу, предпочитали держать в крепости явно безумных».
Крупнейший психиатр XIX столетия Крафт-Эбинг считал, что «чрезвычайно строгая пенсильванская система келейного заключения, с наложением абсолютного молчания, устранением всяких впечатлений внешнего мира, конечно, может считаться причиной многих случаев помешательства». Одиночное заключение, по его мнению, наиболее опасно для людей, «нуждающихся в постоянном обновлении впечатлений», – далее недоверчивых, высокомерных, замкнутых, эксцентричных натур, которые в обыкновенной жизни «считаются... уж совсем нормальными, наконец, людей, глубоко потрясенных нравственно, страдающих сильными угрызениями совести» (М., 1890. С. 211). Большинство психических заболеваний, согласно наблюдениям Крафт-Эбинга, приходятся на первый и второй годы заключения. При этом число заболеваний у случайных преступников (совершивших преступление в аффекте) на 13 % больше, чем у рецидивистов. Причину эту он видел в угнетающем влиянии раскаяния и угрызения совести у первых, между тем как привычные рецидивисты остаются нравственно тупыми. В позднейшие годы заключения, по его мнению, устанавливается известная степень равновесия психической жизни.
Русский психиатр В. Ф. Чиж, изучавший психическую заболеваемость заключенных в бельгийских, германских и французских тюрьмах, пришел к выводу, что «одиночное заключение в высшей степени притупляет заключенных, ведет к общему ослаблению психических сил; после продолжительного (3—10 лет) одиночного заключения многие становятся слабоумными; слабоумие, или, правильнее сказать, ослабление всех психических сил, редко достигает высокой степени; при постоянном одиночном заключении, более чем десять лет, это ослабление психических сил поражает очень многих».
С. С. Корсаков (1901) также подчеркивал качественную специфику «тюремного психоза». Для заключенных в одиночную камеру он считал характерными угнетение, подавленность, бессонницу, страх, яркие слуховые и зрительные галлюцинации. П. Б. Ганнушкин указывал на две причины, больше всего способствующие развитию галлюцинаций и параноида у заключенных: 1) нахождение под подозрением в со- вершении какого-нибудь преступления и 2) изолированное положение. Он писал: «При наличии сколько-нибудь выраженных астенических черт в складе личности (неуверенность, тревожность) у человека, имеющего за собой какие-нибудь подлежащие скрытию обстоятельства, очень легко развиваются опасения слежки, подглядывания, подслушивания и т. д. Естественно, что там, где возникает уже реальная опасность, особенно у людей скрытных, подозрительных, эмоционально-неустойчивых, легко развивается и настоящий параноид: человеку кажется, что окружающие люди говорят только о нем, он видит их перемигивания, подаваемые ими друг другу знаки, слышит предостерегающие и угрожающие голоса, замечает всюду следующих за ним сыщиков и т. д. В резко выраженных случаях, особенно в подследственном заключении, вся картина окружающей действительности меняется, появляются более или менее обильные слуховые галлюцинации, иногда развивается даже и некоторое нарушение сознания». Из приведенных видов ситуационной изоляции видно, что наиболее пагубно на психику человека действует изоляция в камерах одиночного заключения, продолжающаяся несколько лет или десятилетий.
Ужас одиночества препятствует выработке необходимой защитной стратегии, блокирует формирование осмысленной линии поведения. Вместе с тем оно иногда может быть полезно и даже необходимо человеку как средство преодоления мрачных мыслей, чувств, сомнений и тревог. Особо значимо стр е м л е н и е к уед и н е н ию в юношеском возрасте (периоде осознания и овладения одиночеством), когда осуществляется попытка приобрести стиль поведения взрослого человека. Воля к одиночеству всегда обозначает творчество, стремление к сильному творческому порыву, переживание «эпохального» состояния «бури и натиска»; создавая идеал мужчины или женщины, мы творим себя, ведь «любимые приходят к нам только тогда, когда мы способны увидеть их» (Хамитов Н. В., 2001)3. Только процесс превращения одиночества в творчество делает его любовью.
Тоска и скука есть две разные маски человеческого одиночества: это переживание своего одиночества в бытии, своей чуждости бытия. Они означают «выход к собственным пределам и стремление разрушить их». Тоскующий человек может оказаться для окружающих чуждым; исцеляя свою тоску самопре-образованием, он сам становится объектом для изучения другими людьми. Такова позиция Мартина Хайдеггера, считающего, что «глубо- кая тоска, бродящая в безднах нашего бытия, словно густой туман смешивает все вещи, людей и тебя самого вместе с ними в одну массу какого-то странного безразличия. Этой тоской приоткрывается сущее в целом».
В остром периоде психическая травма приводит к переживанию краха системы ценностей , что при отсутствии компенсации может привести к суициду. Стремление к компенсации реализуется в виде сохранения прежней системы ценностей и убеждений; пересмотра, создания новой, более гибкой и жизнеспособной системы. В т о рже н и е т р а в м ы (воспоминания, сновидения, другие формы репереживания) и избегание представляют собой отражение новых тенденций (по типу проработки случившегося и включения его в систему мира данного человека и отрицания – исключения события из этой системы).
Полное или частичное отрицание является первой реакцией, возникающей на событие. Отрицание может быть промежуточным этапом, если в дальнейшем у человека оказывается достаточно сил, чтобы переработать произошедшее, либо может стать окончательным исходом, предохраняющим систему убеждений от пересмотра (крайняя степень отрицания – полная психогенная амнезия). Хронизация постстрессовых нарушений при преобладании отрицания характеризуется выраженным эмоциональным напряжением, которое трансформируется в невротические и психосоматические симптомы.
Депривация (deprivation – лишение чего-либо) определяется фактором ограниченной возможности отношений с другими людьми вследствие длительного пребывания в условиях о д и н о ч е с т в а , резкого стимульного обеднения (се н со р н ая д е п р и в а ц и я) или при невозможности получения привычной социально значимой информации (со ц и-ал ь н ая де п р и ва ц и я). Терминологически речь идет о весьма сходных или равнозначных понятиях – «психическое голодание», «психическая недостаточность», «психическая депривация». Последнее оценивается Й. Лангмайе-ром, З. Матейчеком (1984)4 как психическое состояние, возникающее «в результате таких жизненных ситуаций, где субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых его основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в течение достаточно длительного времени».
Понятие «д е п р и в а ц и о н н ая с и-ту а ц и я» затрагивает случаи, когда отсутствует возможность удовлетворения основных жизненных потребностей (при повторности об- стоятельств речь идет о де п р и в а ц и о н н о м о п ы те, отображающем динамические сдвиги под влиянием предыдущих схожих ситуаций, в том числе недостаточное удовлетворение эмоциональных потребностей в виде аф фе к-ти в н о й де п р и в а ц и и. В процессе нарастания депривационных явлений наблюдаются многообразные психологические и психопатологические состояния - от легких, нерезко выраженных («пограничных») до стойких, очерченных (близких к «психотическим»). На начальной стадии возникают астенические, субдепрессивные, аффективные реакции (среди них встречаются состояния безоблачной радости, восторженности, легкой эйфории), изменения самосознания, описываемые В. И. Лебедевым (1989) как интериоризация (находясь в изоляции, человек персонифицирует неодушевленные предметы, обращает на них свои умственные и аффективные переживания). У отдельных субъектов в этих условиях возникают яркие э йдети ч еские ка рт ин ы и об р аз ы, они как бы компенсируют реальную бедность окружающей среды, скрашивают ее монотонность и однообразие. При усугублении депривации наблюдаются реактивные психотические состояния по типу галлюциноза, бредоподобных фантазий. Согласно Э. Берну (1882), обособленный от общества структурирует время двумя способами - с помощью деятельности или фантазии («грезы на заданную тему»).
Тревога, страх, паника включаются в перечень феноменов, составляющих «переходные состояния» между психологическими и психопатологическими переживаниями. Т р е в о га как общечеловеческая реакция вытекает из угрозы базовым ценностям индивида. R. May (1951) считает, что н о р м ал ь н ая тр е во га пропорциональна объективной безопасности, невротическая - неадекватна и субъективна, сопровождается выраженными сдвигами в эмоциональном гомеостазе, для ее преодоления запускаются психологические защитные механизмы. Назовем наиболее важные из них: вытеснение (по типу игнорирования или принятия симптомов фобии); за м е ще н и е , перенос (тревога изолируется от ситуации и переносится на иной символический объект); проекция (бессознательно подавляемая агрессивность или сексуальность проецируется на окружающую среду, которая представляется опасной, вызывает страх); регрессия (возврат к формам поведения более раннего уровня развития); р а ц и о н а л и з а ц и я (способствует частичной редукции тревожного расстройства); и з б е г а н и е (нередко отмечается тенденция «бегства в работу» с целью ухода от откровения, потенцирующего тревогу); фантазирование (с попыткой успешного раз решения - через воображение - конфликтной ситуации, снижения тревоги и внутрипсихиче-ского напряжения). О. В. Кербиков (1971) определял тревогу как эмоциональное состояние с направленностью в будущее и переживанием смутной, неопределенной опасности. С т р ах сопровождается ощущением непосредственной конкретной угрозы.
Панические атаки клинически бывают представлены неожиданными, беспричинными приступами тревоги, сопровождающимися соматовегетативными симптомами (Семке В. Я., Погосова И. А., Погосов А. В., 2003), определяемыми как «транзиторный психоз страха» (Концевой В. А., 1965), «эмоциональновегетативный криз» (Нелюбова Т. А., 1976). Паника (термин образован от имени древнегреческого бога пастухов Пана) составляет неуправляемое, нерегулируемое поведение людей с утратой критики и контроля за ним; в ее основе лежит временное переживание гипертрофированного страха. По В. М. Бехтереву (1911), паника представляет собой «психическую эпидемию кратковременного свойства» и определяется механизмами внушения при скоплении людей. В случаях угрожающей, нередко смертельной опасности (землетрясения, ураганы, пожары, кораблекрушения и т. п.) полностью утрачивается контроль за своим поведением (непосредственно в очаге опасности), носящим неадекватный, хаотичный характер.
Реакция горя следует непосредственно или несколько отдаленно за тяжелой утратой (после смерти близкого человека, помещения в условия социальной изоляции ). Она протекает по типу неосложненной реакции горя или в виде феноменов в рамках расстройств адаптации (т. е. состояния субъективного дистресса и эмоционального расстройства, которые затрудняют социальное функционирование). Важной стороной в ее клинико-динамической оценке является этнокультуральная специфика реагирования на стрессовые ситуации.
Возвращение системы семейных ценностей является важнейшей задачей предотвращения деструктивных процессов в общественном развитии страны, противостоит неуклонному погружению нации в «демографическую яму». Социально-экономические условия современной жизни определяют выбор активной модели социально-позитивного поведения всех лиц, ответственных за психическое здоровье подрастающего поколения. Выбранный путь не может быть гладким, наверняка он будет трудным и тернистым, но на этом нелегком пути не следует подвергать забвению слова проницательного английского драматурга В. Шекспира: «Если бы делать было так же легко, как знать, что нужно делать, часовни стали бы храмами, а дома бедняков - королевскими дворцами».
В современных условиях потребуется умелое маневрирование личностными и общественными ресурсами, учитывающими характер, основы субкультуры преступного мира («устои преступного общества», язык, фольклор, одежда, песни в стиле «шансон»), государственную политику в сфере пенитенциарной медицины, перспективы её дальнейшего развития. Возросший в последнее время интерес к социальной психиатрии, оценка значимости социальных моментов в специфике возникновения и проявления психических расстройств в различных группах населения доказывают необходимость изучения социальных аспектов у многочисленной группы криминальных личностей, большинство из которых находились ранее или продолжают находиться в местах лишения свободы.
В настоящее время мы можем применить для определения имеющихся эмоциональноволевых, поведенческих нарушений с криминальной деформацией термин аддиктивное поведение или с о ц и а л ь н ы е р а с- стройства личности (по МКБ-10). Распространенный в последнее время термин «аддиктивное поведение», по-видимому, применим и к оценке криминального поведения, так как оно также является искусственно усвоенным отклоняющимся поведением, и лишь после проведения суда оно получает определение преступного. В пенитенциарном учреждении подавляющее большинство осужденных страдают различными психическими расстройствами. Кроме того, с учетом многочисленных судимостей, продолжительного времени нахождения в местах лишения свободы все эти расстройства закрепляются и нарастают. Имеется тенденция к патологической пенитенциарной аддикции, когда фиксируются и закрепляются механизмы криминального поведения, его шаблоны и стереотипы в языке, субкультуре, поведении среди себе подобных с возможностью адаптации только в у с л о в и я х и з о л я-ции. Основой «самореализации» личности становится жизнь в привычных условиях изоляции, с привычными стереотипами. Жизнь на свободе воспринимается как «отпуск», «каникулы» (вспомним образ Егора Прокудина из «Калины красной» с его неуемным стремлением устроить «праздник души» для себя и окружающих близких). При легкости этих формулировок такой «отпуск» оборачивается для окружающих физическими травмами, нанесением материального ущерба (кражи, грабежи). По-видимому, это слишком дорогая цена для общества и конкретно для каждой законопослушной личности за применение условнодосрочного освобождения, сокращение срока наказания и другие льготы для лиц, неоднократно судимых и имеющих стойкие криминальные отклонения.
Главный редактор В. Я. Семке