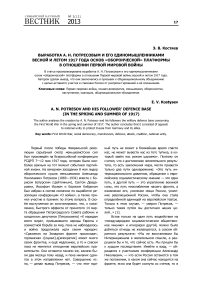Выработка А. Н. Потресовым и его единомышленниками весной и летом 1917 года основ «оборонческой» платформы в отношении Первой мировой войны
Автор: Костяев Эдуард Валентинович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 2 (12), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирована выработка А.Н. Потресовым и его единомышленниками основ «оборонческой» платформы в отношении Первой мировой войны весной и летом 1917 года. Автором сделан вывод, что они заключались в призывах к общенациональному объединению с целью активного участия в спасении России от разгрома Германией и её союзниками.
Первая мировая война, социал-демократия, меньшевизм, оборончество, наступление, коалиция, общенациональное объединение
Короткий адрес: https://sciup.org/14113760
IDR: 14113760
Текст научной статьи Выработка А. Н. Потресовым и его единомышленниками весной и летом 1917 года основ «оборонческой» платформы в отношении Первой мировой войны
Первый после победы Февральской революции серьёзный смотр меньшевистских сил был произведён на Всероссийской конференции РСДРП 7—12 мая 1917 года, которая была наиболее важным на тот момент событием партийной жизни. На вечернем заседании 8 мая лидер оборонческого крыла меньшевиков Александр Николаевич Потресов (1869—1934) вместе с Борисом Батурским (Цейтлиным), Сектом Девда-риани, Иосифом Исувом и Борисом Кибриком был избран в состав комиссии по выработке резолюции конференции «О войне», а также принял участие в прениях по этому вопросу. В своём выступлении он констатировал, что, к сожалению, быстрого эффекта от принятого 14 марта обращения Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов (Петросовета) «К народам всего мира», призывавшего народы Европы к совместной борьбе за мир, пока не наблюдалось и война продолжала идти своим чередом: «Сражения на Западном фронте происходят, германская с[оциал]-д[емократия] имеет много своих фронтов, и ещё медленнее, а то и совсем пока не меняется отношение европейских правительств. Они остаются такими же, какими были два месяца тому назад, и пока никаких сдвигов в этом направлении нет. Совершенно ясно, — делал вывод Потресов, — что этот еди- ный путь не может в ближайшее время спасти нас, не может вывести нас из того тупика, в который завёл нас режим царизма». Поэтому он считал, что к достижению желательного результата, то есть заключения мира, могли привести только два пути одновременно: «Это путь интернационального давления, обращение к европейскому социалистическому мнению — это один путь, а другой путь — это укрепление военной силы, это путь неослабления нашего фронта, а оживление его, усиление мощи России, усиление революционной России, чтобы она стала определённой единицей на европейском театре. Только в этом случае, — уверял Потресов, — только таким путём мы достигнем наших целей…» [1].
Встав только на один путь воздействия на «международное социалистическое общественное мнение» и игнорируя другой, можно было добиться отнюдь не желавшегося, а совсем обратного результата: «Мы не восстановили бы Интернационала в желательном смысле, а разрушили бы и то, что сейчас есть. Мы пришли бы к худшим последствиям. Имейте в виду, — обращался к участникам конференции Александр Николаевич, — что если Россия останется в том же положении, в каком она сейчас находится на фронте, если она будет скинута со счетов, то в ближайшее время, и уже теперь, этот факт будет давать себя чувствовать французским, английским и другим пролетариям стран-союзниц как измена. С другой стороны, этот факт скидывания нас со счетов отразится чрезвычайно вредно также и на германском пролетариате. Он, несомненно усиливая империалистические тенденции германской буржуазии, усилит и заражённую империалистическими тенденциями часть германского пролетариата, не давая развернуться, не давая усилиться тенденциям социалистического меньшинства. Для нас наша тактика определяется нами в данном случае тем, что раз мы добиваемся мира, и раз ещё нет [его] на весах равновесия, и наша чаша ещё легковесна, то чтобы выравнить эту чашу весов, нужно произвести давление военное, если только давление социалистического пролетариата, германского и австрийского, не заставит прийти в равновесие эти весы и не вынудит у германского и австрийского правительства согласия на этот мир. Это надо ясно и определённо себе сказать. Другого выхода нет. Есть два пути, по которым надо идти: военный и путь международной солидарности. Они подкрепляют друг друга и только они могут привести к осуществлению нашей программы мира» [1].
Поддерживала позицию Потресова и член Центрального Комитета социал-демократической группы «Единство» Любовь Исааковна Гирш-Аксельрод (1868—1946), когда писала в начале июня 1917 года, что к прекращению войны должны вести «политические действия, а не сентиментальная, пацифистская пропаганда, оказывающая вредное влияние уже одним тем, что создаёт какую-то иллюзию действия». Предпринимая меры к ускорению ликвидации мирового конфликта, необходимо было в то же время «вести войну и вести её энергично, мужественно, со всей возможной энергией и напряжением»: «Воззвание Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов к народам всего мира является, быть может, единственным внушительным и великим актом, который послужит ярким свидетельством грядущим поколениям о том, что воюющее человечество начала XX столетия не забыло принципов гуманности. Но это обращение только тогда может оказать должное действие, — подчёркивала Гирш-Аксельрод, — когда на стороне обращающихся есть сила» [2].
Более чем уверена она была и в том, что происходившее тогда на фронте братание российских солдат с противником тоже ни на шаг не продвигало к заключению мира: «Наобо- рот, — утверждала Любовь Исааковна, — это явление вносит лишь деморализацию в нашу армию и тем самым не приближает, а отдаляет нас от нашей желанной скорейшей цели ликвидации войны. Война имеет свои законы, свою логику, свою психологию и свою этику. Несмотря на наше отрицательное отношение к войне и стремление к вечному миру, мы должны признать, что солдат, бежавший с фронта, плохой и ненадёжный кандидат в члены социал-демократической партии». Одной из насущнейших задач российской социал-демократии в тот момент она считала энергичную и всемерную поддержку фронта: «Революционная армия должна со всей силой, всем энтузиазмом и мужеством, свойственными революционной эпохе, — читаем в её статье, — встать дружно на защиту молодой русской республики и отразить угрожающую ей опасность со стороны внешнего врага». Но не только внешнего, так как Гирш-Аксельрод полагала, что неудачи на войне способны были также «дискредитировать новый порядок, вдохновлять реакцию и послужить огромной поддержкой контрреволюционным силам, которые умолкли, но не исчезли с лица русской земли» [2].
При таком отношении к необходимости активного сопротивления врагу и оказания военного давления на Германию и её союзников ради скорейшего продвижения к заключению мира вполне объяснимой была поддержка Потре-совым и его единомышленниками летнего наступления российской армии. День его начала, то есть 18 июня 1917 года, будет навсегда запечатлён на столбовой дороге русской революции, писал Александр Николаевич в статье «Пропаганда действием», напечатанной в газете «День» от 20 июня, как одна из её самых достопримечательных вех: «В этот день армия русской революции перешла в наступление и решительным ударом, порвав с обессиливающим и деморализующим её топтанием на месте, сделала серьёзнейший шаг на пути к желанному для всей русской демократии миру.
В этот день, — говорилось далее в статье, — знаменитая формула демократической ликвидации войны, бывшая дотоле воистину бесплотным видением, начала впервые облекаться действительно в плоть — с неба мечтателей спускаться на нашу грешную землю реальных человеческих взаимоотношений». После того как уже «набили оскомину» и «осточертели в своей безысходности все эти платонические разговоры о мире», звучавшие до начала наступления, 18 июня стал, наконец, рассеиваться «туман, который зловеще окутывал всё поле зрения русской обывательщины и русского политического сознания»: «Армия русской революции, — отмечал Потресов, — и через неё — сама русская революция стала опять тем фактором, с которым Европа считается, этот фактор есть величина, которую надо принимать Европе во внимание в её международных решениях; величина, которой — в известных случаях — придётся делать и существенные уступки.
Русская армия жива и, стало быть, жив дух великой русской революции. И стало быть — русская революция может опять начать разговаривать с Европой не как жалкий неудачник и возможный завтрашний банкрот, а как власть имущий, как великая держава.
Она может опять сделать центром своих расчётов не надежды на борьбу европейских демократий против их "империалистских правительств", которая одна будто бы приведёт к желанному миру, а только свою собственную энергию». Поддавшись эйфории первых дней наступления, Потресов утверждал, что революция уже собралась с силами и она уже — отнюдь не «рассыпанная храмина»: «Она — дееспособный организм, осуществляющий и свои военные задачи, и свою военную работу внутреннего преобразования. Раз это так — всё остальное приложится. Вот почему мы полагаем,— говорилось в конце статьи, — что день 18 июня гораздо больше сделает для дела достижения мира, чем Циммервальд-Кинталь — эти блуждающие огни на болоте растерянности. Мы приветствуем героический порыв 18 июня, мы ждём — с трепетом надежды — продолжения, достойного этого начала» [3].
Однако навеянный первыми успехами наступления оптимизм Потресова оказался, к сожалению, чрезмерным. Достойного продолжения начатого не последовало, уже спустя 2 недели наступление наших войск на Юго-Западном и Западном фронтах захлебнулось и вскоре превратилось в беспорядочное отступление. В сложившихся обстоятельствах 7 июля 1917 года принявший в этот день командование ЮгоЗападным фронтом генерал Лавр Корнилов направил Временному правительству телеграмму, в которой говорилось: «Армия обезумевших тёмных людей, не ограждавшихся властью от систематического развращения и разложения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. На полях, которых нельзя назвать полями сражений, царят сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия ещё не знала с самого начала своего существования. Это бедствие может быть прекращено, и этот стыд или будет снят революционным правительством, или, если оно не сумеет этого сделать, неизбежным ходом истории будут выдвинуты другие люди, которые, сняв бесчестие, вместе с тем уничтожат завоевания революции… Я, генерал Корнилов… заявляю, что Отечество гибнет, и потому, хотя и не спрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах в целях сохранения и спасения армии для её реорганизации на началах строгой дисциплины… Необходимо немедленно, в качестве меры временной, исключительной, вызываемой безвыходностью создавшегося положения, введение смертной казни и учреждение полевых судов на театре военных действий. …Смертная казнь спасёт многие невинные жизни ценой гибели немногих изменников, предателей и трусов. …Я заявляю, что если правительство не утвердит предлагаемых мною мер и тем лишит меня единственного средства спасти армию и использовать её по действительному назначению — защиты родины и свободы, то я… самовольно слагаю с себя полномочия главнокомандующего». 8 июля Верховный главнокомандующий генерал Алексей Брусилов в свою очередь телеграфировал Временному правительству, что считает «безусловно необходимым немедленное проведение в жизнь мер, просимых генералом Корниловым». Не дожидаясь разрешения правительства, уже утром 8 июля Корнилов телеграфировал всем командующим армиями и комиссарам следующий приказ: «Самовольный отход частей с позиций считаю равносильным измене и предательству. Поэтому категорически требую, чтобы все строевые начальники в таких случаях, не колеблясь, применяли против изменников огонь пулемётов и артиллерии (выделено в источнике. — Э. К.). Всю ответственность за жертвы принимаю на себя». 9 июля Керенский одобрил все эти мероприятия [4], а через 10 дней Корнилов был назначен Верховным главнокомандующим.
Ознакомившись с текстом телеграммы Корнилова Временному правительству от 7 июля, Потресов отреагировал на неё следующими словами: «Сомнений нет: все признаки последнего часа налицо. Революционной России нельзя больше откладывать ни на одно мгновение то решение, которым она должна встретить этот час, чтобы, буде нужно, умереть, но не сдаться. Нужно величайшее напряжение сил. Требуется огромное самообладание. Необходима единая воля, в которой бы сосредоточилась вся энергия страны, бьющейся за своё существование». Рос- сии нужно было сделать в сложившихся обстоятельствах то, что в августе 1914 года сделала Франция, когда шло великое отступление её армии и когда Парижу грозила непосредственная опасность: «Нужно в порыве национального энтузиазма, — писал Потресов, — революционного вдохновения, которое творит чудеса, выковать объединение нации (курсив Потресо-ва. — Э. К.) на этой борьбе её за своё национальное бытие.
Надо подчинить этому объединению все центробежные силы, все сепаратные стремления классов и групп.
Надо, чтобы все прогрессивные, все жизнеспособные элементы страны делегировали своих представителей в эту национальную концентрацию власти. Чтобы делегаты буржуазии также вошли — в этот критический час для России — в настоящее Правительство Национальной Обороны, присоединившись к представителям революционной демократии, как это три года назад сделали Гед и Самба, когда они вошли в реорганизованное французское министерство, не побоявшись совместной работы со своими всегдашними противниками». Со своей стороны, революционная демократия должна была в такое тяжёлое для страны время совершить процесс самоочищения: «Она должна понять ту горькую истину, — подчёркивал Потресов, — что в настоящий момент ей приходится вести не борьбу за мир, о которой она так много и так неумело говорила все предыдущие месяцы, растлевая сознание тех, кто лишь вполовину разумел этот лозунг; ей приходится вести подлинную борьбу за существование страны, за существование революции.
И эта истина, как властная идея, должна окрасить собою всю современную русскую общественность, заполнив сознание и подчинив себе всё. Только так, как Феникс из пепла, из-под обломков деморализованной армии выйдет армия революции — преображённая и охваченная желанием победить. Только так сложится и могучая революционная власть — единая власть национально консолидировавшейся России, власть, которая не позволит никакому авантюристу-диктатору посягнуть на себя» [5]. Если Потресов призывал в своей статье к созданию в сложившейся обстановке «Правительства Национальной Обороны», то его единомышленник меньшевик Семён Осипович Португейс (1880—1944) — всенародного «Правительства Национального Спасения», задачей которого он видел «засыпающую в тылу и сгорающую в ад- ском пепле анархии на фронте Россию спасти как организм, как живое тело» [6].
В других июльских статьях Потресов писал также, что не существовало тогда «более очередной задачи, чем восстановление боеспособности армии», а создание в России тех дней «объединённой не за страх, а за совесть, единой власти» — это «не фантасмагория досужих людей, не доктринёрская выдумка проповедников объединения во что бы то ни стало, а повелительная необходимость момента» [7]. В выработанном в конце июля проекте резолюции меньшевиков-«оборонцев», рекомендованном для принятия при выборах делегатов на Третью общегородскую конференцию Петроградской организации РСДРП (меньшевиков), также указывалось, что перед революционной Россией стояла тогда общенациональная задача — оборона страны и организация её хозяйственных сил: «Только решение этой двуединой задачи, — говорилось в документе, — способно предохранить страну от катастрофы и тем спасти революцию». Взять на себя решение этой задачи должна была «революционная власть, крепкая той моральной и действенной поддержкой, которую ей должны оказать все прогрессивные силы страны»: «Власть, которая берётся за решение такой общенациональной задачи, — гласил далее проект резолюции, — должна быть естественным выражением концентрации всех сил, работающих над этой задачей. Стало быть, эта власть… должна быть коалиционной, то есть включающей в себя представителей всех соответствующих классов и групп». Политическая программа же этой коалиционной власти определялась отмеченной выше общенациональной задачей, то есть, среди прочего, ей нужно было «создать боеспособную армию, которая, противопоставляя свою мощь натиску врага и побеждая, могла бы приблизить возможность осуществления того демократического мира, к которому стремится демократия всех стран…» [8].
Наиболее же пафосно и отчётливо чисто патриотические и «оборонческие», без пацифистской риторики, мотивы позиции Потресова тех недель прозвучали в передовой статье газеты «День» от 12 августа, выход которой был приурочен к открытию Государственного совещания в Москве. В ней он восклицал: «Пусть будут сужены наши очередные требования, пусть пострадают все наши платформы и программы, только бы действительно закипела артельная работа спасения страны, только бы Россия была спасена!
Граждане всех классов и наименований, мы обращаемся к вам в этот час: помните, Россия в опасности! Помните: ради этого можно всем пожертвовать, всё принести на алтарь забытого и поруганного бога — национального единства. Россия в опасности!» [9].
Прозрение относительно реалистичности реализации на практике призывов Потресова и его единомышленников к укреплению летом 1917 года боеспособности российской армии, к её участию в наступательных операциях и активной обороне от нападения внешнего врага наступило несколько позже, уже после захвата власти большевиками. 22 июля 1918 года тогдашний единомышленник Потресова меньшевик Давид Осипович Заславский (1880—1965) записал в дневнике: «Перечитываю старые газеты. День за днем развертывается революция, и — ведь, господи ты мой! — до чего слепы были правители, да и все мы, до чего не знали народа, не понимали настроения его! Эти кадеты, талдычащие о проливах, когда народ думал уже только о том, чтобы удрать из окопов,— зрелище жалкое и недостойное!» [10]. И, действительно, справедливости ради надо признать, что большевики в 1917 году, в отличие от руководителей Временного правительства и Исполнительного Комитета Петросовета, продемонстрировали значительно более глубокое знание тогдашних настроений народа вообще и крестьян в солдатских шинелях в частности, что и позволило им, среди прочего, так сравнительно легко захватить власть.
Когда в момент высшего напряжения революционной энергии России Временное правительство предприняло наступление 18 июня 1917 года, оно сделало, таким образом, отчаянную попытку, полагал ещё один единомышленник Потресова меньшевик Владимир Осипович Левицкий (Цедербаум) (1883—1938), применить на практике положение Маркса о том, что в революционные эпохи оружие критики не может заменить собой критики посредством оружия «для разрешения мировых задач силами русской революционной демократии»: «И если бы эта попытка увенчалась успехом, дело русской революции было бы прочно обеспечено и значительно вперёд подвинулось развитие международного социализма. Но историческая беда (а не вина) Керенского и его сторонников заключалась в том, — признавал Левицкий в 1918 году, — что они не сознавали, что эта попытка заранее была обречена на неудачу. Русская демократия оказалась неподготовленной к разрешению не только международных, но и своих национальных задач, или, вернее, не смогла выполнить миссии спасителя международной демократии от германского милитаризма именно потому, что не доросла ещё до сознания своих национальных задач, неразрывно сплетшихся в условиях мировой войны с задачами международного характера». В результате неудача июньского наступления «с роковой неизбежностью привела к октябрьским дням и к Бресту, то есть к капитуляции перед германским милитаризмом, нервы которого оказались крепче нервов революционной демократии и чьи пушки одержали верх над её безвольной пассивной жаждой мира» [11].
Тем временем отчётливо наметившийся и озвученный Потресовым как в статье «Больше медлить нельзя» от 13 июля, так и в последовавших за ней, крен в его двуединой позиции в сторону её «оборонческой» части серьёзно обострил внутрипартийную полемику с представителями интернационалистско-пацифистского крыла партии. Жёсткость и непримиримость их противостояния с интернационалистами-«обо-ронцами» во главе с Потресовым ярко демонстрируют, в частности, материалы нескольких петроградских конференций меньшевиков, первая из которых состоялась 3—5 и 13 мая 1917 года. Несмотря на то, что по двум основным вопросам момента — о вхождении меньшевиков во Временное правительство и о войне — эта конференция разделилась на две почти одинаковые части (резолюция против вхождения в правительство собрала 59 голосов против 58, а резолюция, отрицавшая двуединую задачу борьбы за мир и оборону страны, — 63 голоса против 40), при выборах Комитета Петроградской организации РСДРП (меньшевиков) на последнем заседании конференции интернацио-налистам-«оборонцам» было предоставлено лишь 2 места из 15. По заявлению избранных от «оборонцев» членов Петроградского комитета Голикова и Петрашкевича вопрос о несоответствии его состава фактическому представительству разных течений в организации рассматривался Бюро Организационного Комитета РСДРП (меньшевиков) в составе Бориса Батурского, Сергея Ежова (Цедербаума) и Марка Панина (Макадзюба) 31 мая. Так как Бюро признало для себя невозможным вмешиваться во внутренние отношения столичной организации, один из сторонников Потресова, бывший товарищ председателя Рабочей группы Самарского военнопромышленного комитета, 25-летний рабочий-чертёжник Пётр Абрамович (Яковлевич) Голиков выступил с открытым письмом ко всем чле- нам Петроградской организации РСДРП (меньшевиков), которое было опубликовано 1 июня в «Рабочей газете» и в котором он посчитал своим долгом обратиться ко всем районным организациям и близлежащим городам, чтобы они «встали на защиту прав меньшинства» [1].
На этом Голиков не остановился и 4 июля 1917 года, в преддверии начала работ Второй общегородской конференции Петроградской организации РСДРП (меньшевиков) (15—16 июля), подробно изложил свою позицию в специальной статье, опубликованной в № 97 «Рабочей газеты» и называвшейся «Накануне конференции петроградских меньшевиков». Отметив, что избранный в мае с нарушением принципа пропорционального представительства Петроградский комитет за минувшее время своей решительной политикой механического подавления инакомыслящих только усилил дезорганизацию и фактический раскол, Голиков констатировал в статье значительное обострение конфликта: «И вот мы видим, как на протяжении этих двух месяцев в рядах организации идёт брожение, усиливается недовольство, растёт развал, падает влияние,— читаем мы в ней.— Комитет фактически отрывается от районов. Районы Нарвский, Невский, Александро-Невский, Окружная Организация и др[угие] выносят решения о своём несогласии с его позицией… И к тому моменту перед выборами в Учредительное Собрание, когда организация должна будет сыграть исключительную роль, она фактически — в силу своей внутренней болезни — вынуждена оставаться вне жизни. Так долго, конечно, продолжаться не может. Этому нестерпимому положению должен быть положен конец. И предстоящая конференция призвана это сделать» [8].
На самой же конференции Голиков снова поднял этот вопрос, предложив на вечернем заседании 16 июля избрать Петроградский комитет на паритетных началах. Обсуждение прозвучавшего предложения было жарким. В частности, один из наиболее радикальных представителей антиоборонческого крыла партии Юрий Ларин (Михаил Лурье) категорически заявил, что ни о каких соглашениях с «оборонцами» не может идти даже речи. С другой стороны, предложение Голикова поддержали Борис Батур-ский, Владимир Иков, Константин Ермолаев и Павел Трифонов. В результате поздно ночью было достигнуто соглашение и выбран комитет из 14 человек, в который вошли, среди прочих, «оборонцы» Голиков, Иков и Шнеерсон и которому было поручено в течение двух недель со- звать конференцию на пропорциональных началах [8].
Итогам Второй общегородской конференции Петроградской организации РСДРП (меньшевиков) Потресов посвятил большую статью «Искусство генерала Ренненкампфа», увидевшую свет в газете «День» от 18 июля 1917 года. В том, что столичная организация меньшевиков, «…до сих пор находившаяся в безраздельном владении так называемых "интернационалистов", после общегородской конференции 15 и 16 июля уже наполовину перешла в руки оборонцев», он увидел «весьма важный симптом»: «Тот сдвиг, который наблюдается в Петрограде, — писал Потресов, — в среде так называемой меньшевистской социал-демократии, полон глубочайшего смысла. Этот сдвиг для всей России показателен. Он ещё недостаточно обрисовался. Он ещё только первая ласточка, указующая грядущую весну, но сама по себе весны ещё не делающая». Продолжение борьбы ин-тернационалистов-«оборонцев» за свои позиции в Петроградской организации должно было последовать через 2 недели, на следующей конференции. В ожидании этого, считал Александр Николаевич, нужно было «закреплять за собою завоевания весны» и сделать так, чтобы широкое общественное мнение «доподлинно знало типичные черты того вчерашнего большинства, которое налепило на себя почётную марку интернационализма и под ней щеголяло, на самом же деле выявляя не интернационализм, а ничего общего с действительным интернационализмом марксизма не имеющий якобинизм в истинно русской бунтарской подкладке» [12].
Чтобы убедиться в этом, Потресов предлагал читателям ознакомиться с тезисами сделанного лидером интернационалистско-пацифистского крыла партии Юлием Мартовым (Цедер-баумом) 15 июля на Второй общегородской конференции Петроградской организации доклада «Кризис власти», которые там не прошли, но всё же собрали почти половину голосов. Мартов в них указывал, среди прочего, что тогдашний кризис Временного правительства выражал собой глубокий кризис российской революции, вызванной непримиримыми противоречиями интересов участвовавших в ней классов, а в том случае, если впредь никакие буржуазные группы не окажутся способными проводить демократическую программу развивавшейся революции, власть должна остаться исключительно в руках представителей революционной демократии. Потресов приходил в ужас от тезиса
Мартова о «непримиримости» классовых противоречий участников российской революции, считал его выдвижение принятием за последнее слово классовой борьбы того, что на самом деле являлось продуктом классовой примитивности и роковым смешением классового инстинкта с классовым сознанием: «Для классового инстинкта, — пояснял он своё утверждение в статье «Искусство генерала Ренненкампфа», — есть только враги, которых надо крушить, есть только зло, которое, разумеется, следует изничтожать. И против зла, которое представляется единым недифференцированным чёрным пятном, и против врагов, которые все на один образец, идёт сплошная рукопашная: добрый молодец разит своей дубиной направо и налево, расчищая вокруг себя пространство и, стало быть, изолированность. Разит до тех пор, пока не выдохнется и подъём не сменится апатией. Апатией тем более глубокой, чем выше был подъём.
И совершенно другое классовое сознание. Оно настолько же отлично от своего классового эмбриона — примитивного инстинкта, насколько стратегия современных войн не напоминает вот этого самого доброго молодца, разящего дубинкой. Оно знает обходные движения. Оно знает позиционную борьбу. Оно знает тысячи сложных комбинаций и, прежде всего, оно научилось, различая, комбинировать своих врагов таким образом, чтобы, пользуясь одними против других, достигать весьма важных результатов, не достижимых одними силами пролетариата». И в особенности оно знает те случаи комбинированного действия класса с другими общественными силами, которые вызываются так называемыми общенациональными задачами: «Оно прекрасно понимает, — писал далее Потресов, — что отличие одного класса от другого и соответственная "непримиримость" их взаимных интересов при данном общественном строе не исключает, однако, таких положений, когда у всех этих классов с самыми разнообразными, с самыми противоречивыми интересами могут встать общие цели. Такою целью может быть защита страны, когда ей угрожает разгром. <…>
Мы, меньшевики, всегда исходили в наших русских планах из предположения, что вместе с пролетариатом известная часть буржуазии пойдёт и должна будет пойти рука об руку. На этом покоились наши надежды на осуществимость в России того переворота, который мы титуловали буржуазной революцией. …И мы, меньшевики-оборонцы, — подчёркивал автор статьи, — в этом смысле стоим на старых позициях». А Мар- тов, покинув их, стал апологетом именно классового инстинкта, превратился в сторонника «той фазы в развитии нашего движения, которая всего более свидетельствует об отсталости этого движения, об его неумении решить сложные задачи момента благодаря тому, что оно знает лишь толщину разящей дубины»: «Предлагать сейчас сохранение власти в руках советского представительства страны, иными словами, предлагать "диктатуру пролетариата и крестьянства", — это значит, — убеждал читателя Потре-сов, — губить революцию, топить революционную демократию в предрешённом неуспехе…
Избави нас, боже, от такого возвращения к примитивизму классового инстинкта! Избави нас, боже, от упадочного якобинизма, в котором не может быть ни капли подлинной героической веры в своё дело». Россию в её тогдашнем положении мог спасти, по мнению Александра Николаевича, высказанному им в статье «Ленинизм наизнанку» в газете «День» от 20 июля, только «общенациональный энтузиазм» и «общенародный подъём», а предпосылкой такого подъёма могла быть «только коалиция, только союз всех жизнеспособных сил» и «общенациональное единение» [8, 12].
Таким образом, в течение весны и лета 1917 года были выработаны основы платформы Потресова и его единомышленников в отношении Первой мировой войны, заключавшиеся в их призывах к общенациональному объединению революционного пролетариата с представителями буржуазии с целью активного участия этой коалиции жизнеспособных сил страны в обороне России, оказавшейся тогда перед угрозой разгрома Германией и её союзниками.
-
1. Меньшевики в 1917 году : в 3 т. / под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. Т. 1. Меньшевики в 1917 году: от января до июльских событий. М., 1994. С. 331—332, 494, 497—498, 515—516.
-
2. Ортодокс. Революция и догматизм // Дело. 1917. № 3—6. С. 22—23 («Ортодокс» — литературный псевдоним Л. Гирш-Аксельрод).
-
3. Потресов А. Н. Избранное. М., 2002. С. 194—195.
-
4. См.: Милюков П. Н. История второй русской революции. М., 2001. С. 247—250.
-
5. Потресов А. Больше медлить нельзя // День. 1917. № 108(1669). 13 июля.
-
6. Иванович Ст. Последний путь // День. 1917. № 108(1669). 13 июля («Степан Иванович» — псевдоним Португейса).
-
7. Потресов А. Шелуха // День. 1917. № 123 (1684). 30 июля; Его же. Властная идея момента // День. № 121 (1682). 28 июля.
-
8. Меньшевики в 1917 году : в 3 т. / под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. Т. 2. Меньшевики в 1917 году: от июльских событий до корниловского мятежа. М., 1995. С. 142—143, 147—149, 253—254.
-
9. Потресов А. Граждане, Россия в опасности! // День. 1917. № 134 (1695). 12 авг.
-
10. URL: http://magazines.russ.ru/znamia/2008/5/za10-pr.html .
-
11. Левицкий В. Огнём и мечом // Дело. 1918.
-
12. Потресов А. Н. Посмертный сборник произведений. Париж, 1937. С. 246—248, 251.
31(18) марта. № 1 (7). С. 2.
Список литературы Выработка А. Н. Потресовым и его единомышленниками весной и летом 1917 года основ «оборонческой» платформы в отношении Первой мировой войны
- Меньшевики в 1917 году: в 3 т./под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона.Т. 1. Меньшевики в 1917 году: от января до июльских событий. М., 1994. С. 331-332, 494, 497-498, 515-516.
- Ортодокс. Революция и догматизм//Дело. 1917. № 3-6. С. 22-23 («Ортодокс» -литературный псевдоним Л. Гирш-Аксельрод).
- Потресов А.Н. Избранное. М., 2002. С. 194-195.
- Милюков П.Н. История второй русской революции. М., 2001. С. 247-250.
- Потресов А. Больше медлить нельзя//День. 1917. № 108(1669). 13 июля.
- Иванович Ст. Последний путь//День. 1917. № 108(1669). 13 июля («Степан Иванович» -псевдоним Португейса).
- Потресов А. Шелуха//День. 1917. № 123 (1684). 30 июля
- Потресов А. Властная идея момента//День. № 121 (1682). 28 июля.
- Меньшевики в 1917 году: в 3 т./под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. Т. 2. Меньшевики в 1917 году: от июльских событий до корниловского мятежа. М., 1995. С. 142-143, 147-149, 253-254.
- Потресов А. Граждане, Россия в опасности!//День. 1917. № 134 (1695). 12 авг.
- URL: http://magazines.russ.ru/znamia/2008/5/za10-pr.html.
- Левицкий В. Огнём и мечом//Дело. 1918. 31(18) марта. № 1 (7). С. 2.
- Потресов А.Н. Посмертный сборник произведений. Париж, 1937. С. 246-248, 251.