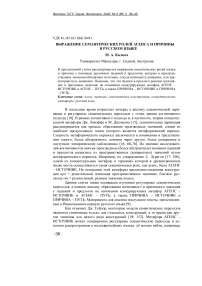Выражение семантических ролей агенса и причины в русском языке
Автор: Калюга Марика Ашотовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования по теории и истории языка
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
В предлагаемой статье рассматривается выражение семантических ролей агенса и причины с помощью различных падежей и предлогов, которые в пространственном значении обозначают источник, откуда начинается движение, или траекторию/путь движения. Показано, что эти падежи и предлоги развили агентивное и причинное значение на основании конкурирующих метафор АГЕНС -ИСТОЧНИК и АГЕНС - ПУТЬ, а также ПРИЧИНА - ИСТОЧНИК и ПРИЧИНА - ПУТЬ.
Агенс, причина, синонимичные конструкции, концептуальные метафоры, русский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/146281687
IDR: 146281687 | УДК: 81.367.633
Текст научной статьи Выражение семантических ролей агенса и причины в русском языке
В последнее время возрастает интерес к анализу семантической деривации и регулярных семантических переходов с точки зрения когнитивного подхода [10]. В рамках когнитивного подхода и, в частности, теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона [15], семантическая деривация рассматривается как процесс образование производных значений, одним из наиболее продуктивных типов которого является метафорический перенос. Сущность метафорического переноса заключается в понимании и представлении одного, более абстрактного, понятия через другое, более конкретное и доступное эмпирическому наблюдению [16: 68-76]. По мнению исследователей-когнитивистов многие производные (более абстрактные) значения падежей и предлогов развились из пространственных (конкретных) значений путем метафорического переноса. Например, по утверждению С. Лурагхи [17: 100], одной из концептуальных метафор, в терминах которой в древнегреческом языке могла осмысливаться такая семантическая роль, как агенс, была АГЕНС – ИСТОЧНИК. На основании этой метафоры предложно-падежная конструкция apò + родительный, имеющая пространственное значение, близкое русскому от + родительный, развила значение агенса.
Данная статья также посвящена изучению регулярных семантических переходов, а именно анализу образования агентивного и причинного значения у падежей и предлогов на основании конкурирующих метафор АГЕНС – ИСТОЧНИК и АГЕНС – ПУТЬ, а также ПРИЧИНА – ИСТОЧНИК и ПРИЧИНА – ПУТЬ. Материалом для анализа послужили тексты, представленные в Национальном корпусе русского языка [9].
Как отмечает Дж. Тейлор, некоторые модели семантических переходов являются типичными только для отдельных конструкций, в то время как другие типичны для целого ряда конструкций [18: 152]. Метафора АГЕНС – ИСТОЧНИК может генерировать регулярные семантические переходы и довольно распространена в индоевропейских языках. её можно найти, например, в латинском, в некоторых романских и германских языках, включая современный немецкий, в славянских языках, а также в современном греческом языке [17: 100]. Согласно этой метафоре, АГЕНС, являясь активным участником ситуации, производителем действия, концептуализируется как ИСТОЧНИК (место, откуда начинается движение). В русском языке источник может обозначаться предложно-падежными конструкциями из + родительный (1а), из-за + родительный (1б), из-под + родительный (1в), от + родительный (1г), с + родительный (1д):
-
(1) а. Ирина вышла из комнаты (В. Токарева. Своя правда // «Новый Мир», 2002);
-
б . Я еле успела к нему выскочить из-за шкафа (А. Геласимов.
Чужая бабушка, 2001);
-
в. Суп, шипя, лез из-под крышки (О. Зуева. Скажи, что я тебе
нужна... // «Даша», 2004);
-
г. Разговаривая, они отошли от витрины (Ю. Домбровский.
Факультет ненужных вещей, 1978);
-
д. Через час к пароходу пришла с берега шлюпка с английским
флагом (Б. С. Житков. «Мария» и «Мэри», 1924).
Из перечисленных конструкций от (отъ) + родительный употреблялась для обозначения агенса в древне- и среднерусском языках под влиянием старославянского языка (2а,б):
-
(2) а. Тое же зимы поставлен бысть дьякономь и попомъ въ Тфери от епископа Феодора (Новгородская Карамзинская летопись, 1400-1450);
-
б. И я топере живу въ Китайскомъ царства за карауломъ:
обуть и одѣть отъ царя [13: 177].
От + родительный использовалась для обозначения агенса до начала XIX в. (3а,б):
-
(3) а. Прадед князь Михаилов, стольник князь Лев Михайлович по прозвищу Орел, убит от поляков на войне и схоронен в Боровске в Пафнутиевом монастыре (М. Н. Волконский. Журнал жизни и службы князя Михаила Никитича Волконского, 1752);
-
б. Противъ чего и въ Гат вс^мъ иностраннымъ Министрамъ
отъ Царскихъ Пословъ протестовано было (И. Голиков.
Историческое изображеніе жизни и всѣхъ дѣлъ славнаго женевца, Франца Яковлевича Лефорта, 1800).
Как утверждается в монографии «Творительный падеж в славянских языках», в XIX в. эта конструкция воспринимается «как чужая и искусственная», и в современном русском литературном языке творительный падеж является единственным средством выражения агенса в страдательной конструкции [2: 137]. Это утверждение не совсем верно. Например, в ситуации процесса передачи информации предложно-падежная конструкция от + родительный имеет агентивный оттенок значения и обозначает активного участника ситуации (4а), в отличие от, например, у + родительный, которая обозначает пассивного участника ситуации (4б):
-
(4) а. Я ведь регулярно получал сообщения от некоего доброжелателя (Д. Быков. Орфография, 2002);
-
б. Я спросил у этого человека , продолжает ли проводник у них работать (Ф. Искандер. Случай в горах, 1980-1990).
Наряду с от (отъ) + родительный, в этом значении в древне- и среднерусском языках очень широко, «во всяком случае отнюдь не уже, чем родительный с предлогом от », использовался творительный падеж без предлога [2: 133] (5а,б):
-
(5) а. [д]а иже богомъ похваленъ есть, то въскѹю чл҃вчьскы чьсти ищеши (Пчела);
-
б. И умолена быста царемъ; и послаше я в Словенскую землю к
Ростиславу, и Святополку, и Кочьлови (Новгородская
Карамзинская летопись, 1400-1450).
Основное пространственное значение творительного беспредложного – значение траектории или пути движения [5: 230–231; 8: 126; 11: 92; 12: 450; 13: 79] (6):
-
(6) Я всё думаю, – между прочим сказал Василий Степанович, когда они уже шли полем (В. Дудинцев. Белые одежды, 1987).
Таким образом, в древне- и среднерусском языках агенс мог осмысливаться в терминах двух конкурирующих концептуальных метафор: АГЕНС – ИСТОЧНИК и АГЕНС – ПУТЬ. На основании метафоры АГЕНС – ПУТЬ другая предложно-падежная конструкция через + винительный, которая в пространственном значении обозначала путь (7а), могла употребляться и для обозначения агенса в XVIII в. [7: 86] (7б):
-
(7) а . … Случилось ему идти чрез поле , где женщины жнут рожь не серпами, а зубами отгрызают солому (Сказка о старушке и её сыне, 1794-1795);
-
б. Три оды парафрастические псалма, сочиненные чрез трех стихотворцев … (СПб., 1744).
Ломоносов считал, что использование для обозначения агенса конструкции через + винительный – это «со французского языка принужденное употребление» [6: 7, 562). На то же указывал Ф. И. Буслаев, отмечая, что «В XVIII в. некоторые писатели употребляли в этом случае, по свойству чужих языков, предлог через » [4: 159]. Через + винительный является калькой, и, скорее всего, употребление подобной конструкции в другом языке развилось под влиянием этой же метафоры АГЕНС – ПУТЬ. Конструкция через + винительный в агентивном значении не прижилась в русском языке, но активно используется для обозначения схожей семантической роли посредника – лица, через которое кто-то другой осуществляет действие (8):
-
(8) Когда после окончания школы хотела поступить на медицинский факультет, Пикассо сообщил через секретаря , что у него нет возможности оплачивать
мою учебу… (Е. Хабаров. Замужем за Пикассо // «Совершенно секретно», 2003.04.08).
Так же, как и агенс, причина может пониматься в терминах различных концептуальных метафор, включая ПРИЧИНА – ПУТЬ и ПРИЧИНА – ИСТОЧНИК. Эти метафоры встречаются в разных индоевропейских языках. Например, С. Лурагхи анализировала семантические переходы, основанные на метафорах ПРИЧИНА – ПУТЬ и ПРИЧИНА – ИСТОЧНИК, на материале древнегреческого языка. Как отмечала С. Лурагхи [17: 323-324], в случае с семантическим переходом путь→причина, мы, возможно, имеем дело с двухэтапным переходом: путь→агенс→причина. Из пространственного значения могло развиться агентивное значение. Затем, поскольку обе семантические роли, агенса и причины, предполагают активного участника ситуации, мог произойти переход агенс→причина [там же].
Метафора ПРИЧИНА – ПУТЬ или ПРИЧИНА – [АГЕНС] – ПУТЬ не является продуктивной в современном русском языке, однако на разных этапах развития языка творительный беспредложный, через + винительный и по + дательный, которые в пространственном значении обозначают путь, имели причинное значение. Например, предложно-падежная конструкция по + дательный продолжает обозначать как путь (9а), так и причину (9б,в) в современном русском языке (9б,в):
-
(9) а . Даже если он будет пешком ходить по полю , всё равно команда будет играть лучше, чем без него (И. Порошин. В. Радимов: «Если бы не «Крылья», я бы закончил с футболом» // «Известия», 2001.08.02);
-
б. Портфель с конспектами и книгами будто по рассеянности забыт в шкафу, закуска – краюшка хлеба и огурец – в кармане (А. Азольский. Облдрамтеатр // «Новый Мир», 1997);
-
в. Так, по ошибке родился, по ошибке жил – всё по ошибке (О.
Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней
// «Октябрь», 2001).
Конструкция через + винительный сохранила причинное значение только до XIX в. (10):
-
(10) Никогда, грешница, не пью, а через такой случай выпью …
(А. П. Чехов. Иванов, 1887).
Беспредложный творительный также употреблялся в причинном значении до XIX в. (11):
-
(11) И ты, батька, если будешь фанатиком, будешь мне противен, и посажу я тебя на такую ругу, чтобы тебе только не околеть голодом с попадейкой твоей и детишками (А. В. Амфитеатров. Княжна, 1889-1895).
В современном русском языке творительный беспредложный используется для обозначения близкой к причине семантической роли стимула физических и эмоциональных состояний. Например, сохранилось его сочетание с та- кими глаголами физического состояния, как, например, болеть, маяться, мучиться и страдать (12а-г):
-
(12) а. Вы либо сумасшедший, либо болеете неизвестной человечеству болезнью ! - бросил я ему в лицо (Е. Велтистов. Ноктюрн пустоты, 1978-1979);
-
б. Он и в самом деле маялся подагрой, однако и её сумел использовать (А. Шубин. Путь к благополучию, 2000);
-
в. Это уже сейчас Дейнека мучился неуютной
галлюцинацией, будто «все было нарочно подстроено». . (Д.
Симонова. Первый, 2002);
г. ... мучился и страдал тоской и неудовлетворённостью, даже не догадываясь, в какой дыре они гнездились (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого // «Новый Мир», 2000).
Многие слова эмоционального состояния также сочетаются со словами в творительном падеже, обозначающими стимул. Модели управления этих слов можно легко объяснить через метафору, если эти слова сохранили управление, отражающее их этимологию. Например, этимология слов восхищать и восторгать проясняет связь между агенсом и стимулом сильной эмоции. Восхищать является родственным похищать, а также хыщати «хватать, похищать», заимствованному из церковнославянского, а восторгать восходит к търгати «дергать, рвать» [14: 240, 83]. Стимул восхищения или восторга метафорически понимается как нечто, чему нелегко противостоять, что захватывает человека. Отсюда и употребление творительного падежа и для обозначения агенса страдательной конструкции (13а,в) и стимула (13б,г):
-
(13) а. похищаться кем-то ;
-
б . восхищаться кем-то ;
-
в. отторгаться кем-то; г . восторгаться кем-то .
Этимология может объяснить и валентные особенности глаголов поражаться / поразиться . Данное эмоциональное состояние метафорически понималось как быть сраженным . Возможно, поэтому в древнерусском языке этот глагол употреблялся с творительным падежом (14):
-
(14) ... Поражатися моимъ недостоинствомъ ... [3: 108].
В дальнейшем, под влиянием управления глагола со схожим значением, удивляться , глагол поражаться стал употребляться с дательным падежом (15а), хотя еще в XIX веке мог управлять творительным падежом (15б):
-
(15) а. Он поражался её памяти (Ю. Трифонов. Обмен, 1969);
-
б. Он смотрелся в зеркало и сам поражался переменой в себе (И.
А. Гончаров. Обрыв, 1869).
С течением времени изначальная метафорическая концептуализация эмоций стирается, и валентные свойства лексем эмоций могут измениться. Как пишет Ю. Д. Апресян, «всякий нормализованный язык стремится использовать - 42 - свои синтаксические средства последовательно и единообразно, и поэтому в тех случаях, когда соответствие между семантическими и синтаксическими признаками отсутствует, язык пытается обрести его, перестраивая по аналогии синтаксические свойства тех слов, которые имеют сходное значение» [1: 545]. Поэтому в современном русском языке при возвратных глаголах восхищения стимул обычно обозначается творительным падежом (13б,г), а при глаголах удивления – дательным (16а,б):
-
(16) а. Она ничуть не удивилась моему приходу – во всяком случае, виду не подала (В. Белоусова. Второй выстрел, 2000);
-
б. Краем глаза косясь на соперницу, Лидия еще раз изумилась своему с ней сходству … (О. Некрасова. Платит последний, 2000).
Распространенной метафорой причины в русском языке является метафора ПРИЧИНА – ИСТОЧНИК. Модель семантических переходов, основанная на метафоре ПРИЧИНА – ИСТОЧНИК, типична для целого ряда предложнопадежных конструкций русского языка. Из + родительный, из-за + родительный, от + родительный и с + родительный, которые в пространственном значении обозначают источник (1а-д), развили причинное значение (17а-г):
-
(17) а. А Энлиль из любви к ней стал ныряльщиком. И проводил дни и ночи в лимбо с её анимограммой (В. Пелевин. Бэтман Аполло, 2013);
-
б. Из-за нехватки денежных средств, помещений и
- квалифицированных судей реформа затягивалась (А. Афанасьев.
Суд присяжных в России // «Отечественные записки», 2003);
-
в. Мёрзнуть от холода , недоедать – разве ради этого ушли они в плавание? (О. Тихомиров. Подвиг Магеллана // «Мурзилка», 2002);
г. Кудри Орли зашевелились, будто поёжились с мороза. (А.
Иванов. Комьюнити 2012).
Итак, в данной статье рассматривались следующие модели семантических переходов:
источник→агенс ( от + родительный)
источник→причина ( из + родительный, из-за + родительный, от + родительный, с + родительный)
путь→агенс (творительный беспредложный , через + винительный)
путь→причина (творительный беспредложный , через + винительный, по + дательный)
Эти переходы развились на основании двух групп конкурирующих концептуальных метафор, АГЕНС – ИСТОЧНИК и АГЕНС – ПУТЬ, а также ПРИЧИНА – ИСТОЧНИК и ПРИЧИНА – ПУТЬ. Большинство данных переходов характерны для разных падежей и предлогов. Кроме того, семантические переходы, основанные на этих метафорах, характерны не только для русского языка, поэтому даже некоторые заимствованные конструкции, пришедшие в русский язык, развились в языке-источнике на основании схожих концептуальных метафор.
Список литературы Выражение семантических ролей агенса и причины в русском языке
- Апресян Ю. Д. Избранные труды. Интегральное описание языка и системная лексикография. Т. 2. М.: Языки русской культуры, 1995. 767 с.
- Бернштейн С. Я. (ред.) Творительный падеж в славянских языках. М.: из-во АН СССР, 1958. 380 с.
- Богатова Г. А. (ред.) Словарь русского языка XI- XVII веков, том 17. М.: Наука, 1991. 814 с.
- Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. М.: Учпедгиз, 1959. 624 с.
- Золотова Г. А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. 2-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2006. 440 с.
- Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений, Труды по филологии 1739-1758 гг. М.-Л.: из-во АН СССР, 1952. 993 c.
- Михайлов Н. Творительный падеж в русском языке XVIII века: PhD dissertation. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia 47, 2012. 296 c.
- Мразек Р. Синтаксис русского творительного (Структурно-сравнительное исследование). Прага, 1964. 285 с.
- Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru (дата обращения: 31.01.2020).
- Пархоменко Т. Н. К вопросу о семантической деривации // Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. № 4-4 (52). С. 87 - 90.
- Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1914. 452 с.
- Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I-II. М., 1958. 536 с.
- Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: Семантика и сочетаемость. М.: Русские словари, 2008. 416 с.
- Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера URL: https://lexicography.online/etvmology/vasmer/ (дата обращения: 1.02.2020).
- Lakoff G. and Johnson M. Metaphors we live by. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980. 242 c.
- Lakoff G. Women, fire, and dangerous things. what categories can reveal about the mind. Chicago: University of Chicago Press, 1987. 614 c.
- Luraghi S. On the Meaning of Prepositions and Cases. Amsterdam and Philadelphia: J. Benjamins, 2003. 363 c.
- Taylor J. Prepositions: patterns of polysemization and strategies of dis-ambiguation // Zelinsky-Wibbelt, C. (ed.) The semantics of prepositions: from mental processing to natural language processing, Berlin-New York: Mouton de Gruyter, 1993. C. 151-175.