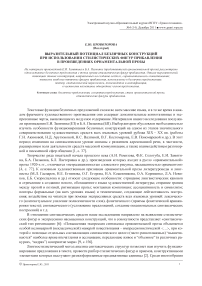Выразительный потенциал безличных конструкций при использовании стилистических фигур прибавления в произведениях орнаментальной прозы
Автор: Провоторова Елена Юрьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Выразительные средства в дискурсах разных типов
Статья в выпуске: 4 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
На материале произведений Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка (представителей орнаментальной прозы) рассмотрены односоставные безличные предложения с точки зрения стилистических фигур прибавления. Описан выразительный потенциал данных конструкций, направленных на создание особого, «орнаментального» повествования; выявлены наиболее типичные фигуры прибавления, используемые в безличных предложениях: повтор, синтаксический параллелизм, полисиндетон и амплификация, в частности нагнетание однородных членов предложения.
Безличные предложения, семантика предложения, стиль орнаментальной прозы, стилистические фигуры прибавления
Короткий адрес: https://sciup.org/14821689
IDR: 14821689
Текст научной статьи Выразительный потенциал безличных конструкций при использовании стилистических фигур прибавления в произведениях орнаментальной прозы
Текстовые функции безличных предложений схожи во всем массиве языка, и в то же время в каждом фрагменте художественного произведения они содержат дополнительные коннотативные и экспрессивные черты, выявляющие их модусное содержание. Материалом нашего исследования послужили произведения Е.И. Замятина (ЕЗ) и Б.А. Пильняка (БП). Выбор авторов обусловлен необходимостью изучить особенности функционирования безличных конструкций на одном из этапов значительного совершенствования художественных средств всех языковых уровней рубежа ХIХ – ХХ вв. (работы Г.Н. Акимовой, Н.Д. Арутюновой, Н.С. Валгиной, В.Г. Костомарова, Е.В. Пономаревой и др.). В этот период изменения на синтаксическом уровне связаны с развитием адресованной речи, в частности, расширением поля деятельности средств массовой коммуникации, а также взаимодействием разговорной и письменной сфер общения [1, с. 37].
Творчество ряда писателей начала прошлого века (А.Н. Ремизова, Ф.К. Сологуба, Е.И. Замятина, Б.А. Пильняка, Б.Л. Пастернака и др.), произведения которых входят в русло «орнаментальной» прозы 1920-х гг., отличается «нетрадиционностью словесного рисунка, насыщенностью орнаментом» [4, с. 77]. К основным художественным признакам орнаментальной прозы литературоведы и лингвисты (М.Л. Гаспаров, Н.Е. Егнинова, О.Г. Егорова, Н.А. Кожевникова, О.А. Корниенко, Л.А. Новиков, Е.Б. Скороспелова и др.) относят следующие особенности: отрицание лингвистических канонов и стремление к созданию нового, обогащенного языка художественной литературы; стирание границ между прозой и поэзией, ритмизация прозы; монтажная композиция; ассоциативность и символизм; повторы формальные (на всех уровнях языка) и тематические, создающие лейтмотивность построения; воздействие на читателя при помощи экспрессивных средств всех языковых уровней: лексического (контекстуальное усиление полисемичности слов), фонетического (приемы фонетической аранжировки текста); синтаксического (усложнение предложений, создание окказиональных синтаксических построений) и т.д.
В отношении синтаксических средств наше исследование направлено на выявление стилистических фигур и экспрессивно насыщенных конструкций, что в совокупности представляет «синтаксический тип ритмизации» [6]: «Повышенная экспрессия синтаксиса орнаментальной прозы объясняется особой нелинеарной (неклассической) манерой повествования - импрессионистической <...>, при которой с помощью отдельных составляющих синтаксического целого (часто разноплановых) “высвечиваются” наиболее яркие впечатления и ассоциации, передающие живое и “объемное” (в различных ракурсах, “кадрах”) восприятие мира» [9, с.156].
Лингвостилистический метод анализа синтаксических структур позволяет нам изучить функционирование предложения в тексте, провести разбор стилистических фигур и приемов, конструктивными элементами которых выступают разнооформленные предикативные единицы [2]. Среди многообразия классификаций стилистических фигур нам видится логичной лингвориторическая классификация, согласно которой фигуры речи делятся на три основных разряда относительно расположения отдельных элементов в высказывании: 1) фигуры прибавления, 2) фигуры убавления, 3) фигуры размещения [12]. В данной статье мы опишем стилистические фигуры прибавления.
В текстах произведений орнаментальной прозы выразительность безличных предложений усиливают такие фигуры прибавления, как повтор, синтаксический параллелизм, полисиндетон, нагнетание однородных членов предложения. Рассмотрим их.
Повторы. Исследователи отмечают высокую продуктивность повторов в орнаментальной прозе [3; 6; 9 и др.], т.к. повторяющиеся элементы являются носителями доминирующих семантических тем, основой лейтмотивов и одним из средств создания ритма: «Густота повтора – характерная особенность образной насыщенности орнаментальной прозы, ее экспрессии» [9, с. 149], причем повторяться могут различные компоненты текста (слово, фраза, обозначения деталей, портретных черт и т.д.). Отметим: повторы слов в границах одного предложения считаются характерной чертой стиля Б.А. Пильняка, полагавшего, что от многократного сознательного повторения слова его значение обязательно сфокусируется, прояснится при восприятии [3, с. 8–9].
Важнейшая роль в организации художественного текста принадлежит словесным повторам [5] вследствие их семантической выразительности и графической наглядности. В произведениях Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка было зафиксировано около 50 примеров контекстов, в которых словесные повторы в безличных предложениях представлены следующими стилистическими фигурами:
-
– анадиплосис (.....А, А.....): Мне было нестерпимо смотреть на них – на них, кого я, вот этими самыми руками через час навсегда оторву от материнской груди Единого Государства (ЕЗ. Мы); Поздно вечером, возвращаясь из займищ, Наталья и Баудек поднялись на лысую вершину к раскопкам. Запахло горько полынью, полынь обросла холм серебряной пыльной щетиной, пахнуло горько и сухо (БП. Голый год);
-
– анафора (А....., А.....): – Мне стыдно, брат, – говорит Егор трудно. – Мне очень стыдно, что так мы с тобою встретились. Брат, тебе неприятно меня целовать, не целуй! (БП. Голый год); В совете нечем было дышать. В совете стала тишина (БП. Мать сыра-земля);
-
– эпифора (.....А, .....А): Алексей Семенов Князьков-Кононов догнал Ульянку Кононову в черном углу на соломе, где пахло соломой, рожью и мышами . Ульянка упала, пряча губы. Алексей ступил коленом ей на живот, отнимая руки, упал, ткнулись руки его в грудь Ульянки, голова Ульянки запрокинулась, – губы были мокры, солены, дыханье горячо, запахло потом горько и сладко, и пьяно (БП. Голый год); Посмотрите кругом – сказка. Пахнет полынью – потому что сказка (БП. Голый год);
-
– эпанафора (.....А....., .....А.....): Ему было стыдно сказать правду и стыдно было своего стыда, он ненавидел сейчас этого улыбающегося римлянина (ЕЗ. Бич Божий); Ничего не надо бояться, надо делать, – все делаемое, даже горькое, бывает счастьем, – а ничто – ничем и остается (БП. Красное дерево).
Приведенные примеры убеждают в том, что прием повтора в орнаментальной прозе организует «динамическую композицию» (термин Л.А. Новикова), когда подвижной становится сама мысль, представляющая тот или иной момент времени, событие, чувство, а характерный для «орнаментализма» принцип монтажности композиции в целом придает повествованию мозаичность, многослойность, нелинейность изложения. Согласно количественным подсчетам, наиболее распространенными являются фигуры анафоры и эпифоры. Их активное употребление мотивировано «законом края», в соответствии с которым запоминаются начало и концовка речевой единицы.
Синтаксический параллелизм. В зависимости от того, как соотносятся предложения, выделяются прямой параллелизм и обращенный (хиазм), а также полный параллелизм (изоколон) и неполный, когда повторяться может лишь общая схема предложений. В анализируемых текстах наиболее распространен прямой неполный синтаксический параллелизм. Всего обнаружено 18 примеров параллельных конструкций в безличных предложениях: Был бодрый солнечный день, когда лесничий Антон
Некульев, бодрый и веселый человек, разыскал в Вязовах полесчика Кузьму Цыпина, рассказал ему, что он новый лесничий, что он коммунист, что на пароходе была теснотища чертова, что ему надо в сельский совет, что ночью ему надо в Медынь, что Ленин, черт подери, – башка! (БП. Мать сыра-земля); Нельзя было слушать Андрею Иванычу – и еще больше нельзя не слушать (ЕЗ. На куличках); Больше невозможно было смотреть на Ганькину русую челку, на черную родинку у нее на губе – нужно было сейчас же закричать, как сапожник Федор (ЕЗ. Наводнение). Схожие структурно предложения, во-первых, привносят в текст ритмичность за счет интонационной близости, а во-вторых, упрощают его единообразно оформленными предложениями, придающими изложению некоторую стилевую скупость. Вместе с тем, применение тождественных по структурному оформлению предложений способно обогатить контекст дополнительными смысловыми акцентами, которые фокусируются в общеграмматической семантике расширенной структурной схемы предложения: Да, конечно же!.. – Юзик помолчал. – Нигде нет таких звезд, как в Индийском океане – Южный Кгест... Я исколесил весь миг, и нигде нет такой стганы, как Госсия (БП. Голый год); Пришлось Андрею Иванычу вылезть из сна, пришлось встать, открыть дверь (ЕЗ. На куличках); Их было несколько. Мне было любопытно. Я сделала это от любопытства, и потом – пора, мне двадцать четыре (БП. Красное дерево). Повтор синтаксической конструкции с синонимичным лексическим наполнением Д.С.Лихачев назвал «стилистической симметрией» [7].
В некоторых случаях синтаксически параллельные конструкции образуют кольцевую композицию, отграничивая законченную мысль от остальной части в ССЦ, либо, в случае многократного повторения схожих конструкций, связывают части контекста в единое целое: Алкоголь в городе продавался только двух видов – водка и церковное вино; других не было, водки потреблялось много, и церковного вина, хотя и меньше, но тоже много - на христову кровь иных не было (БП. Красное дерево); < ^ > Чаны с дубящейся кожей и трупный запах кож и дубья – и этот запах даже в доме, даже от воскресных пирогов, пухлых, как перина, и от перин, как в праздник пироги, и ладан матери (мать умерла, когда было тринадцать лет и надо было мать заменить по хозяйству и научиться кожевенному делу ) и, отец, как бычья дубленая кожа из чана, и часы с кукушкой, и домовой за печкой, и черти, – и тринадцати лет в третьем классе гимназии – уже оформилась под коричневым платьицем грудь, – и обильно возросла к семнадцати заволжская красавица девушка-женщина; Петербург и курсы встретили туманной прямолинейностью, но туманы были низки как потолки дома, и на Шестнадцатой Линии в студенческой комнате надо было изводить клопов, – но все же потолки после них – дома, когда умер отец – показались еще ниже, душными, закопченными, <…> и тоже все шахматно верно и кожевенные заводы (ими пахнет детство) нужны для Красной армии, их необходимо пустить (БП. Мать сыра-земля).
Как показал исследованный материал, в большинстве примеров параллелизм парный, и во всех без исключения случаях он выполняет прежде всего воздействующую и поэтическую функции, когда на совпадающих грамматических частях конструкций формируется ритмизация фрагментов текста. В качестве параллельных речевых отрезков способны выступать как простые независимые предложения, так и предикативные единицы, входящие в состав сложных. Повторы синтаксических конструкций часто контаминируются с лексическими анафорическими и эпифорическими повторами, многосоюзием или полным отсутствием союзных средств.
Полисиндетон. Основным выразительным качеством многосоюзия является способность придавать речи, с одной стороны, торжественность, приподнятость, т.к. формируется стиль, который ассоциируется с языком Библии, а с другой – плавность и текучесть, повторяемость, что может создавать в тексте ритмичность и ощущение поступательности развития действия. В текстах произведений Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка было зафиксировано 15 примеров контекстов, содержащих безличные предложения, связанные повторяющимися союзами: И надо покрепче стиснуть зубы, чтобы не стучали; и надо щепать дерево каменным топором; и надо всякую ночь переносить свой костер из пещеры в пещеру (ЕЗ. Пещера); Любит каждый однажды, и всегда любовь несчастна, ибо иначе не может быть и должно так быть, потому что после любви человек становится подлинно человеком, потому что страдание очищает, красота и радость любви – в тайне ее (БП. Смертельное манит).
Полисиндетон предполагает длинное, часто пространное сложное предложение, что образно передает эмоциональный настрой персонажа, его возбужденное состояние или настроение автора, стремящегося описать происходящие события разносторонне, обширно, не упуская деталей, связывая все воедино. Соединение множества простых предложений в одном сложном, отсутствие между ними продолжительных интонационных пауз создают впечатление непрерывного речевого потока.
Нагнетание однородных членов предложения как стилистический прием часто подкреплено многосоюзием или асиндетоном и способно объединять множество предложений, содержащих повторы тех или иных элементов конструкции. Необходимо рассмотреть осложнение безличной конструкции однородными членами. Данное осложнение возможно в целом ряде случаев (мы не учитываем полипредикативные предложения с однородными безличными элементами, не объединенными общими распространителями). Всего было обнаружено около 70 примеров с безличными предложениями, имеющими:
-
– однородные распространители предикативного минимума ( В салоне, потому что поезд пришел с юга, застрял этот юг: пахло гранатами, апельсинами, хорошим вином, хорошим табаком, – пахло хорошим благоденствием полуденных стран (БП. Повесть непогашенной луны); И тотчас же Софье сделалось больно от стыда и жалости (ЕЗ. Наводнение); Ему б следовало думать о революции и его партии, о собственной его судьбе революционера, – но эти мысли не шли (БП. Красное дерево));
-
– однородные компоненты в составном предикате ( Надо быть свободным и отказаться от всего (БП. Голый год); Внутри было пусто, темно, высоко, солнце косым ножом разрезало темноту (ЕЗ. Бич Божий));
-
– однородные предикаты при общем детерминанте ( Мне трудно дышать, трудно идти – и трудно, медленно, не останавливаясь ни на секунду – ползет стрелка аккумуляторной башни, там, в конце проспекта (ЕЗ. Мы); Под навесом темно, тепло . Вздыхает корова глубоко и мычит (БП. Голый год))*;
-
– случаи силлепсиса (объединение двух или более однородных членов, так или иначе различающихся в грамматическом отношении): Надо быть свободным и отказаться от всего (БП. Голый год).
Итак, последовательность и взаиморасположение однородных членов в составе безличного предложения в текстах Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка обусловлены экстралингвистическими причинами, в первую очередь – влиянием ситуативного фактора, интенцией авторов, фиксирующих последовательность элементов реального положения дел, последовательность явлений действительности или важность событий для развития действия.
Выявленные стилистические фигуры, используемые в безличных предложениях, реализуют три основные общеязыковые функции (по классификации М.Н. Кожиной [11]): коммуникативную (выступая средством передачи информации), номинативную (сообщая об определенной пропозиции) и эмотивную (указывая на обязательное присутствие говорящей личности в тексте с комплексом эмоций и отношением к сказанному), на которые наслаиваются информационная, эстетическая (образная, изобразительная) и воздействующая функции. Информационная функция проявляется в том, что рассмотренные экспрессивные средства участвуют в обеспечении прогрессии текстовой информации, отграничивают основную информацию от фоновой, ускоряют или замедляют потоки информации, акцентируют авторскую позицию [8, с. 110]. Избыточность в номинативном плане, характерная для фигур прибавления, позволяет автору «апеллировать к читателю и “навязать” ему свое видение ситуации, предмета, его действий, признаков, места событий и времени» [10, с. 88], что приводит к реализа- ции экспрессивной (воздействующей) функции, тогда как графическое расположение повторяющихся элементов поддерживает изобразительную функцию.
Анализ контекстов с безличными предикативными единицами привел к выявлению у них таких стилистических функций, как воздействие на читателя при помощи специфической структурализации текста; изобразительность текстового фрагмента за счет графических средств; эстетическое (поэтическое, ритмизованное) обрамление контекста.
Список литературы Выразительный потенциал безличных конструкций при использовании стилистических фигур прибавления в произведениях орнаментальной прозы
- Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка: учеб. пособие. М., 1990
- Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. М., 1990
- Егнинова Н.Е. Рассказы Ю.П. Казакова в контексте традиций русской орнаментальной прозы: автореф. дис.... канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2006
- Кириллова И.В. Проза Б. Пильняка: к проблеме взаимодействия эстетических систем реализма и модернизма//Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Серия «Филологические науки». 2004. №3. С. 77-81
- Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка: учебник. М., 2006
- Корниенко О.А. Ритмическая парадигма орнаментальной прозы Бориса Пильняка («Голый год»): статья первая//Русская литература. Исследования: сб. науч. тр. Киев, 2008. Вып. ХII. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Rli/2009_13/shubert-ornienko.pdf (дата обращения: 25.09.2009)
- Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979
- Митева Н.В. О синтаксических стилистических приемах//Язык. Сознание. Коммуникация: сб. ст./отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. М., 2001. Вып. 20. С. 108-110
- Новиков Л.А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. М.: Наука, 1990
- Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории: учебник для студентов-журналистов и филологов. М., 2002
- Стилистический энциклопедический словарь русского языка/под ред. М.Н. Кожиной. 2-е изд., испр. и доп. М., 2006
- Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: курс лекций. Словарь риторических примеров. Ростов н/Д., 1999