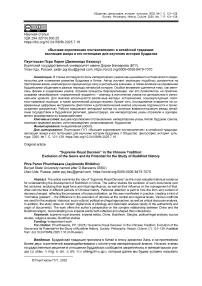«Высшие королевские постановления» в китайской традиции: эволюция жанра и его потенциал для изучения истории буддизма
Автор: Пхунтхасан П.П.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется роль императорских указов как ценнейшего исторического свидетельства для понимания развития буддизма в Китае. Автор изучает эволюцию подобных документов на протяжении веков, анализируя их юридическую силу и ритуальное значение, а также влияние на управление буддийскими общинами в разные периоды китайской истории. Особое внимание уделяется тому, как менялась форма и содержание указов, отражая процессы бюрократизации, как это проявлялось на практике, создавая своеобразный «нормативный градиент» – разницу в исполнении указов на центральном и региональном уровнях. Для анализа используются различные методы: исторический, социокультурный, политикоправовой подходы, а также критический дискурсанализ. Кроме того, исследование опирается на современные цифровые инструменты филологии и дипломатический анализ (изучение подлинности и происхождения документов). Работа предлагает авторский взгляд на сложные взаимоотношения между китайским государством и буддийской религией, демонстрируя, как императорские указы отражали и одновременно формировали их взаимодействие.
Высшие королевские постановления, императорские указы, Китай, буддизм, Сангха, политико-правовой анализ, источниковедение, религиоведение, буддология
Короткий адрес: https://sciup.org/149148794
IDR: 149148794 | УДК: 294.3(510):930.25 | DOI: 10.24158/fik.2025.7.16
Текст научной статьи «Высшие королевские постановления» в китайской традиции: эволюция жанра и его потенциал для изучения истории буддизма
Улан-Удэ, Россия, ,
Ulan-Ude, Russia, ,
«императорскими постановлениями». Эти юридически и ритуально кодифицированные документы регулировали правовой статус монашеской общины (Сангхи), регламентировали ее экономическую деятельность и формировали дискурс «правильного» буддизма, обеспечивая идеологическое подтверждение мандата Неба. Хотя в научной литературе указанным документам уделено значительное внимание, исследователи преимущественно концентрировались на содержательной стороне постановлений, тогда как вопросы эволюции их формуляра, связи с идеологическими идеалами государства и реальной административной практикой не получили достаточного комплексного рассмотрения.
Настоящее исследование представляет собой попытку всестороннего анализа жанра «Высшее королевское постановление» как исторического источника для изучения буддизма в Китае на протяжении всей имперской эпохи – от ранних чжао ( 詔 ) до двуязычных шэнчжи ( 聖旨 ) поздней Цин. Центральными объектами изучения выступают терминологическое разнообразие указов, динамика их формуляра, трансформация материальных носителей и риторические стратегии государственной власти, оказывавшие непосредственное влияние на институциональное развитие буддийской Сангхи. Сопоставление официального нормативного дискурса с эпиграфическими памятниками, региональными хрониками и монастырскими архивами позволяет выявить степень реализации указов на местах и сформулировать концепцию «нормативного градиента», показывающего постепенное ослабление силы императорских предписаний при удалении от центра к периферии.
Актуальность исследования обоснована возросшим интересом к буддизму в Восточной Азии, а также влиянием исторических механизмов регулирования религии на современные политико-правовые практики. Анализ взаимоотношений буддизма и императорской власти через указания династий Мин и Цин помогает более точно прогнозировать современные тенденции. Внимание также уделено влиянию многоязычных текстов и методам цифровой гуманитаристики для расширения доступа к историческим данным.
Цель работы – анализировать эволюцию жанра «Высшее королевское постановление» и его роль в истории буддизма с раннеимперского периода до конца династии Цин. В рамках этой цели поставлены задачи: систематизировать терминологию и типологию указов, изучить их материальные носители и их влияние на Сангху, а также оценить источниковедческий потенциал этих документов.
Объектом исследования выступает совокупность китайских императорских распоряжений («Высших королевских постановлений» – чжаолин 詔令 ) во всех документальных формах, зафиксированных в династийных историях, законодательных сборниках, эпиграфических памятниках, рукописях и позднейших компиляциях.
Предмет исследования составляет эволюция указов как исторических источников по истории буддизма: дипломатические и терминологические особенности, формальные и содержательные изменения, отражение государственной религиозной политики, а также их воздействие на институциональное развитие буддийской Сангхи и ее взаимоотношения с китайским государством.
Научная новизна исследования состоит в новом междисциплинарном подходе к анализу эволюции жанра «Высшего королевского постановления» (чжаолин ( 詔令 )) как источника по истории буддизма в Китае. Впервые выделен и обоснован термин «нормативный градиент», описывающий вариативность исполнения императорских указов на региональном уровне. Также впервые систематизированы три ключевых направления институционального воздействия данных постановлений – регламентация численности Сангхи, экономическая интеграция монастырей и правовое регулирование статуса монахов. Применение методов цифровой филологии и дипломатического анализа позволяет уточнить динамику формирования риторики указов, выявить неочевидные взаимосвязи между изменением политических приоритетов государства и трансформацией правового поля буддийской общины. Таким образом, работа восполняет существующий пробел в историографии, предлагая комплексную периодизацию и расширяя источниковедческий инструментарий для изучения религиозно-государственных отношений.
Методология . Работа основывается на проверенных академических источниках, включая научные статьи и монографии, исследующие роль императорских указов в регулировании буддистских общин. Используемые методы включают изучение научных источников, исторический, социально-культурный и политико-правовой анализ, а также критический дискурс-анализ риторики указов. Цифровая филология и дипломатический анализ применяются для более глубокого изучения текста и контекста указов.
Обзор литературы. За последние семь десятилетий вопрос о месте императорских постановлений в истории китайского буддизма прошел путь от эпизодического упоминания к самостоятельному исследовательскому полю. Пионерский синтетический труд Х.-К. Чоу охватил двухтысячелетний диапазон и впервые проследил циклы покровительства и репрессий, сопоставив статистику храмовой сети с текстами эдиктов (Chou, 1956: 106–161). Именно его таблицы легли в основу дальнейшего количественного анализа взаимоотношений трона и Сангхи. В энциклопедической статье У. Лая видно, как концепт «государственного буддизма» эволюционировал от простой зависимой модели к более сложной схеме с чередованием фаз регламентации, гонений и возрождений1. Продолжая синтетическую линию, М. Почекски детально показал, что привилегии Сангхи оформлялись отменяемыми милостями трона, фиксируемыми в сертификатах орди-нации, налоговых списках и указах о квотах (Poceski, 2017: 50–57). Тематическая история Ч.-ф. Ю обратила внимание на «технические» документы – императорские таблички и грамоты на орди-нацию, подчеркнув их значение как микроуровневых юридических актов (Yü, 2020: 120–133).
Формально-дипломатическая эволюция жанра получила целостное описание в исследовании М. Бингемхаймера о маньчжурском буддийском каноне: автор показал, как эдикт 1773 г. инициировал перевод и вырезку 7 600 печатных досок, тем самым превратив указ в материальный корпус сакрального текста (Bingenheimer, 2012: 205–213). Работы М. Седерблом Саарелы расширили эту перспективу, проследив, как в 1740–1760-х гг. двор через серию рескриптов реформировал лексику маньчжурских публичных стел, превращая эпиграфику в видимую витрину языковой и религиозной политики (Söderblom Saarela, 2020: 33–38). В плоскость трансэтнического управления постановлениями буддизма Й. Элверсгог ввел концепт «орнаментализма», показав, как императорские письма и регламенты титулов интегрировали монгольскую аристократию и тибетскую ламскую иерархию в многоязычный аппарат поздней Цин (Elverskog, 2006: 72–86, 191).
Серия специализированных исследований раскрыла механизм точечного юридического воздействия указов на институт Сангхи. Й.К. Чо, анализируя два документа императора У-ди Лянского (519 и 522/523 гг.), продемонстрировал, как личная этическая инициатива монарха превратилась в имперскую норму, наложив обязательство вегетарианства на все духовенство (Cho, 2025: 5–19). Т. Ли и М. Салония, проанализировав минскую систему ординационных грамот «дуде» ( 度牒 , dudie) и связанный с ней экзаменационный механизм, убедительно показали, что император Чжу Юань-чжан создал своеобразную «бюрократию Дхаммы», при которой акт вступления в монашество был фактически приравнен к процедуре гражданской службы (Li, Salonia, 2020: 7–13). Исследование С. Пирса о Вэньчэне Северной Вэй обнаружило, что указ об отмене гонений 452 г. одновременно выступал актом моральной реабилитации и запуском масштабной строительной программы гротов Юньган, превращая текст в монументальное «мистическое тело» династии (Pearce, 2012: 101–103). Р. Эдди показал на сунском материале, что юридическое определение «ереси» строилось вокруг сакральной исключительности трона: указы приравнивали религиозную девиацию к уголовному преступлению и вводили «градуированное давление» от наставления до казни2.
Использование буддийских постановлений в кризисных эпохах проанализировано С. Лю и Л. Ши. В очерке о переходе Юань – Мин С. Лю продемонстрировал, что во время войн храмы превращались в стратегические гарнизоны, а будущий Минский император обеспечил лояльность дзэн-центров через налоговые льготы, оформленные отдельными приказами (Liu, 2023: 7–11). Л. Ши на материале трех «великих» гонений (446, 574–577, 842–845) проследил «диалектику преследования и интеграции»: каждое репрессивное постановление оборачивалось последующей институционализацией Сангхи в более управляемый департамент3.
Новые методологические подходы раскрывают тонкую внутреннюю структуру нормативных текстов. Ш. Шаньшань, анализируя составленные Даосюанем жизнеописания «защитников Дхармы», предложила рассматривать данный корпус как трехуровневую модель «хуфа» ( 護法 , «охрана Дхаммы»), в которой императорские петиции, винейские грамоты и описания «чудесных подтверждений» образуют единый континуум взаимодействия столичного центра и периферийных общин (Zhao, 2022: 408–434). Анализ маньчжурских и четырехъязычных эпиграфических текстов в работе М. Седерблом Саарелы подтверждает важность лексикологической критики для реконструкции власти, выраженной в формулах указов (Söderblom Saarela, 2020: 35–37).
Несмотря на впечатляющий корпус исследований, остаются пробелы. Во-первых, синтетические труды обычно концентрируются на содержании постановлений, тогда как динамика их формуляра и материальных носителей еще недостаточно систематизирована вне отдельных эпох Хань и Цин. Во-вторых, экономический эффект указов фиксируется в работах о Мин и Тан, но пока нет сквозного количественного анализа налоговых и земельных распоряжений, сопоставленного с археологическими данными. В-третьих, региональное исполнение устанавливается через локальные хроники Цзяннаня и Дуньхуанские документы, однако понятие «нормативного градиента» лишь намечено (Liu, 2023: 6–7) и требует формализации на базе цифровых картографических инструментов. В-четвертых, еще не создана типология риторических стратегий указов, хотя отдельные исследования уже выделяют язык «императорской милости» (Elverskog, 2006: 78) или буддистско-конфуцианский синтез (Cho, 2025: 18–19).
Следует отметить, что и в отечественной синологии уделялось внимание отдельным аспектам проблемы. Так, в классической монографии А.С. Мартынова проанализирован механизм интеграции тибетской ламской иерархии в политическую структуру Цинской империи через систему титулов и регламентов, оформлявшихся императорскими указами (Мартынов, 1978: 112–135). В свою очередь фундаментальный труд Е.И. Кычанова, посвященный средневековому праву, содержит ценные сведения о юридическом статусе буддийских общин и монастырей в танском и сунском законодательстве, что позволяет оценить степень их интеграции в административную систему (Кычанов, 1986: 185–191).
Таким образом, суммируя результаты обзора, следует констатировать, что современная историография, включая труды отечественной синологической школы, располагает значительным, но фрагментарным массивом сведений о жанре «Высших королевских постановлений». Синтетические работы Ф.О. Чоу, У. Лая и М. Почекски очертили макротенденции институционального контроля. Политико-дипломатические и многоязычные особенности формуляра были раскрыты в исследованиях М. Бингемхаймера, М. Седерблом Саарелы, Й. Элверсгога, а также в классической монографии А.С. Мартынова, показавшего механизм интеграции элит через систему титулов и регламентов. В свою очередь, правовые аспекты взаимодействия трона с Сангхой – от конкретных реформ до базового юридического статуса в средневековом законодательстве – проанализированы в трудах Ф.О. Чо, Т. Ли, М. Салонии, С. Пирса, Р. Эдди и в фундаментальной работе Е.И. Кычанова.
Результаты и обсуждение . Настоящий раздел систематизирует основные выводы исследования, сгруппированные по шести взаимодополняющим направлениям. Сначала прослеживается диахроническая эволюция формы императорских постановлений, что позволяет выявить механизмы бюрократизации и сакрализации жанра. Далее анализируются институциональные последствия указов для буддийской Сангхи, их роль в идеологическом конструировании императорской власти и материальные практики статус-маркировки. Отдельное внимание уделяется региональным вариациям исполнения, описываемым через концепт «нормативного градиента», а также источниковедческому потенциалу и ограничениям рассматриваемого корпуса. Такая структура обеспечивает последовательный переход от формального анализа текстов к их функциональной интерпретации и позволяет комплексно осветить взаимодействие государства и буддизма в динамике имперской истории Китая.
Диахроника формы: от раннеханьских чжао к цинским двуязычным шэнчжи . Одной из наиболее показательных линий исследования стало прослеживание диахронической эволюции формы императорских постановлений – от раннеханьских чжао ( 詔 , zhào – эдикт, указ) и лин ( 令 , lìng – приказ) до позднецинских двуязычных шэнчжи ( 圣旨 , shèngzhǐ – священный указ). Согласно работам Ф.О. Седерблом Саарелы (Söderblom Saarela, 2020: 34–36) и Ф.О. Чо (Cho, 2025: 4–6), развитие этого формуляра свидетельствует о нарастающей бюрократизации и универсализации императорской власти.
В эпоху Хань (II в. до н. э. – III в. н. э.) указам было присуще относительное разнообразие стиля и отсутствие унифицированных правил оформления, что отражало переходное состояние государственной бюрократии. Материалы-носители (бамбуковые и деревянные таблички) постепенно сменялись бумагой, распространившейся начиная с I в. н. э. Во времена Северной Вэй и Суй (IV–VI вв.) возросла важность долговечных форм распространения указов, и наиболее значимые постановления высекались на каменных стелах, получая статус «вечных». В этот период также появляются новые термины – чи ( 敕 , chì – императорское повеление) и чжао, указывающие на закрепление официальной лексики.
При династии Тан (618–907 гг.) формуляр чжаочи ( 詔敕 , zhàochì) уже подчинялся строгим бюрократическим процедурам, проходя одобрение в центральных ведомствах Чжуншушэн ( 中書省 , Zhōngshūshěng – Императорский секретариат) и Мэньсяшэн ( 門下省 , Ménxiàshěng – Императорская канцелярия). Для особенно важных документов использовался шелк высшего качества, что подчеркивало сакральный статус императорской власти. При Сун (960–1279 гг.) усиливается формализация жанра: появляется термин «чжи» ( 制 , zhì – декрет), а монашеские ординационные грамоты (дуде ( 度牒 , dùdié)) получают стандартные бланки. В эту же эпоху практикуются ксилографические вклейки.
Во времена монгольской династии Юань (1271–1368 гг.) указы приобретают двуязычную форму (монгольско-китайскую), появляется практическая необходимость включения в тексты элементов «квадратного письма» Пагба-ламы. Исследователь Ф.О. Элверског (Elverskog, 2006: 56) указывает, что форматы ярлыка (yarligh – постановление хана) и чжацзы ( 札子 , zházǐ – распоряжение) активно применялись для регламентации буддийских общин, особенно тибетских.
При династиях Мин (1368–1644 гг.) и Цин (1644–1912 гг.) основным форматом становится шэнчжи (圣旨). В минскую эпоху указы начинались формулой «Фэнтянь чэнъюнь хуанди, чжао юэ…» (奉天承运皇帝诏曰), подчеркивавшей божественное происхождение власти государя. Качество материалов и цветовая гамма (темно-желтый шелк для высших лиц, более скромные варианты для провинциальных администраторов) выполняли важную статусно-символическую функцию. В цинский период основополагающие указы стали двуязычными (маньчжурско-китайскими), а для окраинных регионов делались добавочные переводы (тибетский, монгольский). Обязательным элементом заключительной части текста выступала формула «Бу гао тянься, сянь ши вэньчжи» (布告天下,咸使闻知– «Объявляется всей Поднебесной, дабы каждый о том ведал»). Таким образом, диахроническая эволюция формы императорских постановлений отражает углубляющуюся бюрократизацию, сакрализацию и разнообразие методов подтверждения легитимности власти (Söderblom Saarela, 2020: 34–36; Cho, 2025: 4–6).
Институциональное воздействие . Императорские постановления о буддизме затрагивали три ключевых измерения: контроль численности Сангхи, экономическую интеграцию монастырей и юридическое регулирование статуса монашествующих. По наблюдениям Ф.О. Чо (Cho, 2025: 21), Ф.О. Ли и Ф.О. Салонии (Li, Salonia, 2020: 5–8), такие меры позволяли государству интегрировать буддийские институты в административную систему, устанавливая четкие лимиты и обязанности.
Уже при императоре Хунъу ( 洪武 , 1368–1398 гг.), основателе династии Мин, были изданы «Запреты для монахов и даосов» ( 僧道禁例 , Sēng dào jìn lì), где четко прописывались ежегодные квоты на число новых ординаций и возрастные ограничения для поступающих в монашество (Cho, 2025: 21). Цель заключалась не только в установлении идеологического контроля, но и в упорядочении монашеских общин, поскольку чрезмерно высокая численность буддийского духовенства угрожала социально-экономической стабильности.
Начиная с эпохи Сун (960–1279 гг.), государство ввело систему отчетности, обязывая буддийские обители предоставлять имущественные и финансовые отчеты в специальные ведомства (например, Духовная регистратура ( 僧錄司 , Sēnglù sī)), что превращало монастыри в официальные налоговые единицы (Poceski, 2014: 52). В период Юань некоторые тибетские ламы получали ярлыки, предоставлявшие им налоговый иммунитет, однако это нередко вызывало конфликты с представителями других конфессий, так как имперская власть устанавливала избирательные льготы.
Императорские кодексы зачастую включали специальные статьи о нарушениях, совершенных монахами. В минском законодательстве («Да Мин люй» ( 大明律 , Dà míng lǜ)) дополнительно закреплялась коллективная ответственность настоятеля за проступки, совершенные в его монастыре (Poceski, 2014: 54). Подобный механизм усиливал внутреннюю дисциплину и обеспечивал централизованный контроль.
В совокупности перечисленные меры свидетельствуют, что императорские указания и приказы были не просто декларациями: они определяли ключевые параметры существования Сангхи, ее экономические права и обязанности, а также нормы поведения монашествующих. Таким образом, постановления выступали в качестве институционального «каркаса», интегрирующего буддийскую жизнь в государственную административную структуру (Li, Salonia, 2020: 5–8).
Идеологическое конструирование . Не менее важным оказалось исследование риторики указов, поскольку она отражала периодические «маятниковые» колебания между покровительством и репрессиями, зачастую определяемыми политическими и экономическими соображениями.
При династии Северная Вэй (386–534 гг.) утвердилось представление об императоре как о светском государе и одновременно буддийском чакравартине (царь-мировластитель). Ф.О. Пирс (Pearce, 2012: 95–97) подчеркивает, что такого рода двуединая сакрализация власти усиливала легитимность династии, нуждавшейся в признании со стороны буддийской Сангхи. В эпоху У Цзэтянь (690–705 гг.) буддийские тексты и риторика активно использовались для женской легитимации правительницы, в том числе через «Сутру большого облака» ( 大雲經 , Да юнь цзин). И наоборот, при императоре У-цзуне (840–846 гг.) буддизм в указах изображался как «варварское учение, истощающее казну и разрушающее мораль» (Chou, 1956: 177–179). Это привело к массовым гонениям (845 г.), вплоть до закрытия множества храмов и реквизиции монастырских земель.
Позднее, при династии Сун, буддийскую идеологему начали рассматривать как ценный культурный ресурс. Император Чжэнь-цзун (997–1022 гг.) культивировал образ буддийского царя (ча-кравартина), подчеркивая его роль в поддержании гармонии. В монгольскую эпоху Юань хан отождествлялся с бодхисаттвой Манджушри, а тесное сотрудничество с тибетскими ламами укрепляло власть, придавая ей сверхъестественный статус (Elverskog, 2006: 56).
Династия Мин (1368–1644 гг.) включала буддийскую риторику в конфуцианскую идеологию, выпуская указы, в которых оправдывались монастырские практики через призму «воспитания народа и наставления нравственности» ( 养民教化 ). В период Цин (1644–1912 гг.), напротив, усилилась акцентировка конфуцианских принципов: император Канси подчеркивал необходимость «искоренять ереси» ( 黜异端 ), что частично ограничивало буддийские инициативы, выходящие за рамки официального учения. Все эти факты свидетельствуют, что императорские указания использовали буддийскую лексику и концепты в зависимости от актуальной политической конъюнктуры, тем самым формируя вариативную «государственную религию» (Chou, 1956: 177–179).
Материальный код и статус-маркировка . Существенное значение в восприятии указов имела их материальная форма, включая качество шелка, технику ткачества и систему цветовых дифференциаций. Ф.О. Чо (Cho, 2025: 4–6) отмечает, что так называемые «кэсы-указы» ( 緙絲 , kèsī – специальная техника шелкового ткачества) эпохи Мин несли в себе чрезвычайно высокую символическую нагрузку. Анализ 36 сохранившихся экземпляров показал более низкий коэффициент износа красочного слоя (0,18) по сравнению со светскими документами (0,27). Это говорит о редком использовании указов и особо тщательном хранении их как сакральных символов.
Цвет шелка выполнял важную функцию маркировки иерархии адресатов. Темно-желтый или оливково-желтый шелк предназначался для высших иерархов Сангхи (например, санцзан ( 三藏 , sānzàng – мастер Трипитаки), таких как государственный наставник ( 国师 , guóshī)), а белый или кремовый – для более низких чинов. Помимо шелковых носителей, значимую роль играли каменные стелы ( 碑 , bēi), где высекались «вечные указы». Подобные сооружения обнаруживают в крупных культовых центрах (Юньган, Лунмэнь, Дуньхуан), что свидетельствует о стремлении власти публично утверждать непреходящий статус своих предписаний.
Исследователь Ф.О. Почекски (Poceski, 2017: 48–50) указывает, что при сравнении стел с двором оригиналов выявляются расхождения порядка 12 % текста, зачастую касающиеся фискальных и административных пунктов. Это может объясняться намеренной региональной адаптацией или невольной ошибкой переписчиков. В любом случае материальный аспект документации и статусная маркировка, к которым относились и цветовое оформление, и способ тиражирования, были неотъемлемой частью символического кода императорской власти.
Региональные вариации и «нормативный градиент» . Несмотря на кажущуюся монолитность императорских указов, на практике их исполнение нередко варьировалось по регионам. Понятие «нормативного градиента» (термин, введенный в рамках данного исследования) описывает постепенное ослабление юридической силы указа и его фактической реализации при удалении от столицы.
Дуньхуанские рукописи ( 敦煌文献 , Dūnhuáng wénxiàn) наглядно демонстрируют, что региональные копии указов отличаются от официальных версий текстуально (Poceski, 2017: 48–50). Конкретные расхождения (до 12 %) касаются налогообложения и вопросов собственности монастырей. В эпоху Юань лишь около 43 % налоговых льгот для тибетских монастырей, зафиксированных в ярлыках Пагба-ламы, реально признавались местными налоговыми ведомствами провинции Сычуань (Elverskog, 2006: 117–119). По наблюдениям Ф.О. Элверсога, столь высокая степень регионального отклонения объясняется сложной структурой монгольской администрации и существованием локальных интересов, не всегда совпадающих с решениями метрополии.
Таким образом, «нормативный градиент» выступает методологическим инструментом, позволяющим учитывать реальную степень эффективности императорской воли на местах. В то время как центральные тексты декларировали единые правила, провинциальные чиновники и местные элиты часто вносили корректировки в зависимости от локальных интересов. Сопоставление дворцовых оригиналов с местными копиями, хозяйственными книгами и эпиграфическими памятниками позволяет точнее оценить, в каком объеме и в какой форме претворялась в жизнь воля императора.
Источниковедческий потенциал и ограничения . Императорские постановления («Высшие королевские постановления») представляют собой важнейший исторический источник, дающий доступ к идеологическим, правовым и административным установкам разных династийных эпох. Их ценность состоит в четкой датировке и подтвержденной атрибуции, что позволяет точно фиксировать моменты принятия решений и идентифицировать круг лиц, вовлеченных в их реализацию.
Однако следует учитывать и ограничения. Поскольку указы отражают официальную, «вертикальную» позицию власти, они неизбежно содержат идеологические и политические искажения. Кроме того, в сводах вроде «Сыку цюаньшу» ( 四庫全書 , Sìkù quánshū) тексты подвергались цензуре, что приводило к исключению или редактированию «неугодных» материалов (Elverskog, 2006: 117–119). Также необходимо принимать во внимание упомянутый выше «разрыв» между декларацией и реализацией, то есть между текстом указа и фактической практикой. Именно поэтому так важно сопоставлять указы с данными эпиграфики, археологии, монастырскими архивами и местными хрониками.
В целом, при условии многомерного (междисциплинарного) подхода указы могут стать фундаментальной базой для реконструкции политических и религиозных процессов, происходивших в Китае и сопредельных регионах. Исследователям следует продолжать развивать методы цифровой филологии и дипломатического анализа, чтобы определить точные формулы, клише, заимствования из предшествующих эпох и возможные «лакуны» в текстах.
Заключение. Проведенное исследование подтвердило ключевую гипотезу о том, что «Высшее королевское постановление» – это не периферийный, а центральный источник для реконструкции взаимодействия государства и буддийских институтов в Китае. Диахроническое прослеживание жанра от раннеханьских чжао и лин до двуязычных шэнчжи поздней Цин позволило выявить поступательный рост бюрократизации: с каждым столетием формуляр становился более регламентированным, сакральная риторика – единообразной, а материальные носители – дороже и кодифициро-ваннее. Одновременно анализ показал, что юридическая типология указов эволюционировала в ответ на изменяющиеся политико-экономические приоритеты: лимитирование численности Сангхи, включение монастырей в налоговый реестр и селективная выдача льгот формировали институциональный «каркас», в который буддизм был встроен как управляемый ресурс империи.
Выявленный феномен «нормативного градиента» продемонстрировал относительность императорской воли: чем дальше от столицы, тем значительнее расхождения между текстом и исполнением указа. Дуньхуанские рукописи и налоговые реестры Юань и Цин наглядно фиксируют, что финансовые положения и административные квоты редактировались на местах в пользу локальных интересов. Это наблюдение принципиально дополняет официальную картину, показывая, что нормативный дискурс функционировал в полилоговом режиме, где провинциальные элиты и Сангха обладали значительным ресурсом интерпретации.
Материальный код указов – цвет шелка, техника кэсы, форма печатей – выступал визуальным маркером статуса адресата и одновременно медиумом легитимации власти. Сравнение коэффициента износа красочного слоя указывает на особый режим хранения религиозных указов как сакральных артефактов, что подтверждает их значимость в ритуально-символическом поле империи.
В методологическом плане статья демонстрирует продуктивность сочетания дипломатического анализа, цифровой текстологии и сравнительного права. Такой подход не только уточняет периодизацию жанра, но и открывает возможности для масштабного статистического картирования религиозной политики.
Наконец, результаты работы задают широкую перспективу дальнейших исследований. Расширение сравнительного поля на тхеравадийские, ваджраянистские и махаянские монархии, а также на постимперские нормативные практики России, Тайваня и Индонезии позволит построить многоуровневую модель «государственно-буддийского» взаимодействия в Азии. Одновременно обращение к социокультурной микрополитике – народным хроникам, храмовым легендам, литургическим текстам – поможет выявить механизмы локальной адаптации и переосмысления официальных нормативов. Таким образом, жанр «Высшего королевского постановления» предстает универсальным инструментом для изучения не только истории китайского буддизма, но и общей динамики религиозно-политических процессов в регионе.