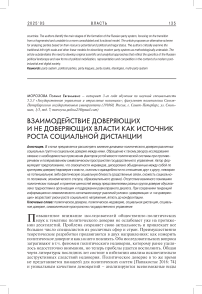Взаимодействие доверяющих и недоверяющих власти как источник роста социальной дистанции
Автор: Морозова П.Е.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 3 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается рассмотреть влияние динамики политического доверия различных социальных групп на социальное доверие между ними. Обращение к такому ракурсу исследования связано с необходимостью прояснения факторов устойчивости политической системы при противоречивом и поляризованном символическом пространстве государственного управления. Автор формулирует предположение, что совокупности индивидов, дискурсивно объединенные между собой по критериям доверия/недоверия к власти, склонны к враждебности по отношению друг к другу, невзирая на потенциальную либо фактическую социальную близость (родственные связи, схожесть социального положения, экономического статуса, образовательного уровня). Отсутствие взаимного понимания политических позиций и принятия ценностей между представителями разных кругов доверия обусловлено трудностями в организации и поддержании равноправного диалога. При сохранении тенденций информационно-символического нагнетания вокруг различий условно «доверяющих» и «не доверяющих» возрастают риски роста социального напряжения, вплоть до конфронтации.
Политическое доверие, политическое недоверие, социальная дистанция, социальное доверие, символическое пространство государственного управления
Короткий адрес: https://sciup.org/170210350
IDR: 170210350 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-3-135-140
Текст научной статьи Взаимодействие доверяющих и недоверяющих власти как источник роста социальной дистанции
Повышенное внимание исследователей общественно-политических наук к тематике политического доверия не ослабевает уже на протяжении десятилетий. Проблема сохраняет свою актуальность и привлекает все большее число специалистов из различных сфер и стран. Преимущественно теоретические разработки продвигаются в двух направлениях: как измерить политическое доверие и как на него повлиять. Оба исследовательских вопроса затрагивают в т.ч. феномен политического недоверия, которому ранее уделялось недостаточно внимания, но теперь пробелы удается восполнить. Общая черта литературы последних лет состоит в избегании анализа исключительно деструктивных следствий недоверия. Политическое доверие в то же время не представляется панацеей для политических систем [Папакостас 2016: 74] и уникальным качеством демократий – анализируются всевозможные виды доверия и вариации их проявлений при различных политических режимах и вытекающие из этого риски.
Новые грани анализа не отменяют общие теоретические рамки политического доверия как нематериального фактора общественного согласия по поддержанию устойчивости общественно-политической системы государства. Также общим местом остается представление о том, что накопление критической массы политического недоверия разрушает связность общества как на горизонтальном, так и на вертикальном уровне, изолируя группы от общества и институтов власти.
Основываясь на сказанном выше, отметим, что в основе политического доверия и недоверия лежит функциональный феномен, подобный по своей природе критической способности. В сочетании с допущениями о рациональной основе политического поведения граждан и существовании универсального представления о доверии получим подход, который в отечественной литературе именуется оксфордским, аналогично названию справочника – The Oxford Handbook of Social and Political Trust [Кириленко, Алексеев 2021: 24]. Отметим, что работа, основанная на анализе преимущественно западных демократий, при множестве достоинств, имеет теоретическое ограничение, сужающее возможности применения ее положений при анализе российского случая. Эта особенность встречается и в других работах авторитетных исследователей и заключается в недостаточной рефлексивности относительно разделения понятий «политическое доверие» и «лояльность», которые часто используются как тождественные, однако не являются синонимами.
Политическая лояльность, определяемая через приверженность индивида или группы целям, нормам, ценностям, транслируемым обществу политическими институтами или иными акторами, может быть подлинной либо формальной [Попова, Лагутин 2019: 600]. Политическое доверие, понимаемое нами как общая вера в эффективность политических институтов и доброжелательную мотивацию должностных лиц, напротив, не может быть формальным. Даже основанное на ложных основаниях, вызванное манипуляцией, доверие для того, кто доверяет, является подлинным. То же можно сказать о социальном доверии – это уверенность в отношении непредвиденных действий других и действий, основанных на этой уверенности [Штомпка 2012: 326]. Сообразно с этим, недоверие – способ справиться с неясным будущим в ситуации, когда мы не уверены в поведении контрагента.
Высокая неопределенность обусловлена различиями, иногда противоречиями в целях и ценностях, нормах и правилах поведения [Доверие и недоверие… 2013: 42]. По представлению А. Папакостаса, социальное пространство делится на условные зоны доверия [Папакостас 2016: 53]. Границы пространства доверия воспроизводят иерархию и поддерживают доверие внутри границ, конструируя социальные отношения. Само по себе существование границы свидетельствует о наличии дистанции между объектами, достаточной для проведения разграничения. Измерение социальной дистанции может рассматриваться в качестве индикатора доверия: чем дистанция меньше, тем выше вероятность доверия. В то же время существующее в обществе недоверие увеличивает дистанцию и может даже приводить к возникновению социального разлома.
Связь политического и социального доверия доказывается в ряде работ зарубежных исследователей, которые посвящены анализу кейсов конкретных стран: Чили [Bargsted et al. 2022], Швеции [Dinesen et al. 2022], Южной
Кореи [Hong, Kim D., Kim H. 2023], США [Aassve et al. 2024], Австралии [Kumove 2024] и др. Исследователи повсеместно отмечают наличие сильной, но несимметричной связи между обобщенным, партикулярным и политическим доверием [Newton, Zmerli 2011: 169]. Согласно сравнительному исследованию с использованием данных 2005–2007 гг. World Values Survey , партикулярное и обобщенное доверие являются необходимыми, но не достаточными условиями для политического доверия. Эти данные справедливы для стран с демократическим политическим устройством.
В России одновременно с высоким уровнем политического доверия социальное доверие находится в кризисе: доминирует мнение, что во взаимодействии с людьми следует соблюдать осторожность1. Сложилась ситуация, противоположная той, что наблюдается в США: вследствие проблем реализации антикризисной политики в период пандемии COVID -19 произошло значительное снижение уровня политического доверия [Aassve et al. 2024: 1], заметное даже при длительно существующем негативном тренде, и замещение его ориентацией на негосударственные институты с ростом социального доверия.
На основании данных European Social Survey анализируется связь между политическим доверием и эффективностью проводимой политики [Hadarics 2024: 90]. Автор приходит к выводу, что политическое доверие может «ослеплять» граждан в их восприятии проблем политической системы. Положительное отношение к власти, основанное на неведении, позволяет сохранить ощущение благополучия. Выявлена зависимость: чем сильнее реальные проблемы эффективности системы, тем большую роль будет играть политическое доверие в качестве движущей силы отрицания проблем.
Данный подход позволяет объяснить состояние политического доверия в современной России. При действительно высоком уровне политического доверия основные стратегии поведения доверяющих – рационализация, игнорирование или отрицание возникающих проблем. Этот факт позволяет сделать шаг в сторону того, как именно поляризация политического доверия оказывает воздействие на социальное доверие между условно доверяющими и не доверяющими проводимой государством внутренней и внешней политике.
Усиление недоверия может являться не только негативным следствием различий, основанных на неравенстве, но и их причиной. Социальный разлом современного российского общества, напрямую связанный с нематериальным ресурсом доверия, – это растущая дистанция между людьми, доверяющими и не доверяющими проводимой государством внутренней и внешней политике. В первом приближении заметим, что подгруппы, образованные водоразделом доверия, характеризует наличие общих представлений и ценностей. Кроме того, у людей, одинаково доверяющих или одинаково не доверяющих, может быть схожий опыт, а также культурный и образовательный капитал. При этом может существовать и прямо противоположная ситуация: члены семьи, близкие друзья, коллеги либо одногруппники при схожих исходных социальных координатах могут обнаружить себя по разные стороны баррикад. По всей видимости, зависимость есть, но она нелинейна. Влияние сопутствующих факторов в виде образовательного и культурного уровня, экономического положения, СМИ и социальных сетей, политического контекста обусловливает внутреннюю неоднородность групп. Кроме того, подгруппы людей, которые мы характеризуем через категории доверие/ недоверие, не являются гомогенными и устойчивыми. Они есть не что иное, как воображаемые сообщества, продукты дискурсивного замыкания [Байша 2021: 18], существующие в моменте.
Условно разделенные таким образом группы отдаляются по двум причинам – внутренней и внешней. Внутренняя заключается в различных оценках эффективности политического руководства: интерпретации могут не только отличаться, но и полностью исключать друг друга на разных полюсах крайнего доверия/недоверия. Круг доверия и круг недоверия оперируют разными аргументами, апеллируют к разным событиям, по-разному видят их следствия и используют разные слова. Это препятствует построению диалога, поскольку важнейшими его характеристиками являются равенство участников, признание их позиций и минимизация искажений.
Внешняя причина – общественно-политический контекст. Круг недоверия подвергается давлению со стороны государства механизмами законодательного регулирования и значительными ограничениями свободы собраний и ассоциаций, митингов и протестов, свободы слова и независимости СМИ1. Широкие и неточные формулировки в поправках к действующему законодательству затрагивают права человека и представляют потенциальную опасность для отдельных лиц и организаций, т.к. могут быть истолкованы предвзято. Практика правоприменения подтверждает данные опасения международных и российских структур2. Стремление вытеснить вербально выражающую недоверие, политически активную оппозицию из символического пространства в сочетании с физической изоляцией активистов является признаком отсутствия стремления политического руководства к диалогу сообществ разных позиций на равных. Ключевая роль государства должна заключаться в том, чтобы поддерживать баланс и обеспечивать всем частям общества равные права на соучастие в выработке публичной политики.
При сохранении негативного тренда информационно-символического нагнетания напряженности вокруг различий существует вероятность поэтапной эскалации конфликта в форму открытой конфронтации. Солидаризация внутри и ожесточение снаружи – атрибуты антагонистического общественного противостояния, первые признаки которого уже заметны в полярных военно-патриотическом и оппозиционном либерально-демократическом дискурсах. Диалог их представителей не удается выстроить должным образом: взаимные оскорбления, манипуляции, навешивание ярлыков – общее место подобных дискуссий. В связи с этим на современном этапе урегулирования конфликта фрустрация – ключевая негативная эмоция.