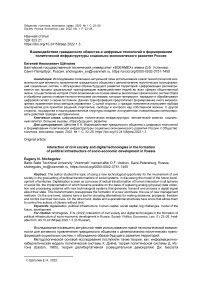Взаимодействие гражданского общества и цифровых технологий в формировании политической инфраструктуры социальноэкономического развития России
Автор: Щголев Евгений Николаевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено актуальной теме использования новой технологической возможности для активного привлечения гражданского общества к целеполаганию политических трансформаций социальных систем, к обсуждению образа будущего развития территорий. Цифровизация рассматривается как процесс радикальной трансформации взаимодействия людей во всех сферах общественной жизни, осуществление которой стало возможным на основе замены аналоговых (физических) систем сбора и обработки данных новыми технологическими системами, которые генерируют, передают и обрабатывают цифровой сигнал о своем состоянии. Данная трансформация предполагает формирование иного мировоззрения, применение иных методов управления. С одной стороны, у граждан появляется инструмент выбора альтернатив для принятий решений, перспектив, свободы и контроля над собственной жизнью. С другой стороны, государства и надгосударственные структуры владеют инструментом, позволяющим контролировать действия граждан неограниченно.
Цифровизация, политическая инфраструктура, человеческий капитал, социальный капитал, большие вызовы, образ будущего, развитие
Короткий адрес: https://sciup.org/149139658
IDR: 149139658 | УДК: 323.21 | DOI: 10.24158/pep.2022.1.3
Текст научной статьи Взаимодействие гражданского общества и цифровых технологий в формировании политической инфраструктуры социальноэкономического развития России
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург, Россия, ,
Baltic State Technical University “Voenmeh” named after D.F. Ustinov, Saint-Petersburg, Russia, ,
Исследование посвящено актуальной теме использования новой технологической возможности для активного привлечения гражданского общества к целеполаганию политических трансформаций социальных систем, к обсуждению образа будущего развития территорий.
Методологической основой исследования послужили такие теории, как: информационнокибернетическая модель политической системы К. Дойча, теория политической системы Д. Истона (Easton, 1965), теория делибертативной (совещательной демократии) Дж. Бессета
(Bessette, 1980), теория прямой демократии И. Бло (2015), модель мониторной (цифровой) демократии Дж. Кина (2015).
Цифровизацией мы называем процесс радикальной трансформации взаимодействия людей во всех сферах общественной жизни, осуществление которой стало возможным на основе замены аналоговых (физических) систем сбора и обработки данных новыми технологическими системами, которые генерируют, передают и обрабатывают цифровой сигнал о своем состоянии. Данная трансформация предполагает формирование иного мировоззрения, применение иных методов управления (Щёголев, 2021: 158). Не случайно цифровизацию зачастую сравнивают с электрификацией страны в XX в. С одной стороны, у граждан появляется инструмент выбора альтернатив для принятий решений, перспектив, свободы и контроля над собственной жизнью (Шваб, Дэвис, 2018: 20–21). Например, Дэвид Хэлд, автор исследования «Модели демократии», понимает демократическую политику как инструмент защиты граждан от произвольного правления (Хэлд, 2013: 381). С другой стороны, государство и надгосударственные структуры владеют инструментом, позволяющим контролировать действия граждан неограниченно. Примером может служить система социальных кредитов в Китае.
Политической инфраструктурой мы считаем типы связей элементов политической системы. Различные типы связей образуют различные модификации политических институтов, ими определяются контуры политических коммуникаций, осуществляемых в политическом пространстве, в том числе с использованием различных политических технологий влияния на поведение политических сил. Политическая инфраструктура образуется в зависимости от особенностей информационных процессов, протекающих в политической системе. Качество управления детерминировано содержанием и оптимальным распределением внутренних и внешних информационных потоков, продуцированных участниками политического процесса. Профессиональный уровень организации движения информационных потоков в конечном итоге непосредственно влияет на эффективность политического управления. Также политической инфраструктурой должен быть выработан такой терминологический аппарат, который понимался бы единообразно как субъектом управления политической инфраструктурой, так и объектами управления в ней. Иначе, какими бы привлекательными ни были информационные потоки, которые циркулируют в политической инфраструктуре, они приведут к неправильному истолкованию информации и в конечном итоге вектор ошибки будет высок, что будет снижать качество управления и создавать напряжение как в структурных элементах управления, так и в политической системе в целом (Щёголев, 2021: 159).
Термин политической науки «гражданское общество» сегодня зачастую преломляется в понятие «человеческий капитал», которое носит скорее экономический оттенок и определяется как совокупность тех качеств человека, которые «приносят доход», как результат от вложений в здравоохранение и образование.
Наряду с понятием «человеческий капитал» политологи, социологи, антропологи активно используют понятие «социальный капитал». Р.Д. Патнэм показал социальный капитал ключевым фактором эффективного управления и выявил, что государство может опираться не только на вертикаль власти, но и на горизонтальную кооперацию членов социальных групп (Патнэм, 1996: 115). При этом Патнэм различал два уровня формирования социального капитала:
-
1) структурный – формальные и неформальные социальные взаимосвязи;
-
2) культурный – создание ценностных норм, прежде всего, норм взаимного доверия (Патнэм, 1996: 141).
Доверие между людьми Ф. Фукуяма считал ядром социального капитала, поскольку на основе доверия целесообразно формировать правила и нормы, которыми впоследствии добровольно будут руководствоваться члены социальной группы (Фукуяма, 2002: 121). П. Бурдье (2005) связывал социальный капитал с взаимным признанием и взаимной полезностью в социальных группах.
В этом аспекте мы можем обратить внимание на то, что впервые к обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития России на период до 2035 года были приглашены широкие слои населения, позиция которых в значительной степени определяет эффективность ее будущей реализации. На официальном сайте Государственной автоматизированной информационной системы «Управление» размещены два информационных проекта, связанных с вовлечением гражданского общества в процесс долгосрочного стратегического планирования:
-
• информационный ресурс для проведения общественных консультаций по разработке Стратегии-2035 в рамках государственной автоматизированной системы «Управление»1;
-
• сайт «Россия будущего: 2017–2035» для обсуждения мнений о будущем облике России до 2035 года1.
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» указывается, что для достижения стратегической цели – уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI в., занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан – необходимо «формирование качественно нового образа будущей России»2.
В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ 01.12.2016 № 642, была представлена система «больших вызовов», представляющая собой массив проблем, угроз и возможностей, которые не могут быть решены, предотвращены (устранены) или использованы исключительно за счет увеличения ресурсов. Для адекватного ответа на большие вызовы были введены приоритеты научно-технологического развития России, обеспечиваемые в первоочередном порядке кадровыми, инфраструктурными, информационными, финансовыми и другими ресурсами. Трансформация науки и технологий выступает ключевым фактором развития России и обеспечения её безопасности3.
Всё возрастает актуальность исследований, связанных с этическими аспектами технологического развития, изменениями социальных, политических и экономических отношений4. Этот аспект представляется нам ключевым, поскольку определяет как целеполагание использования цифровых технологий, так и результаты их применения, влияние на качество жизни граждан.
Динамика технологий широко обсуждаемой сегодня Четвертой промышленной революции указывает на востребованность следующих принципов:
-
1) при наличии политической воли, инвестиций и совместной работы всех заинтересованных групп технологии могут создать условия для построения новых систем ;
-
2) системы на основе новых технологий должны предоставить людям больше выбора, перспектив, свободы и контроля над собственной жизнью;
-
3) системное мышление призвано помочь человеку понять структуры, управляющие миром, и понять, как новые технологии могут перевести их в новые конфигурации;
-
4) технологии не есть нейтральные инструменты, которые могут быть использованы для благих или вредных целей: определённые ценности встраиваются в технологии уже на этапе разработки (Шваб, 2017: 20–21).
Среди внутренних вызовов, с которыми необходимо оперативно справиться России, прежде всего отмечают демографические: общее снижение численности населения и так называемый «демографический крест», который представляет собой рост социальных обязательств бюджета на фоне сокращения доли трудоспособного населения5.
В мире в целом происходит демографический переход – высокие темпы роста народонаселения в 1916–1970 гг. (2,02 %) снизились до 1,36 % в 1995–2000 гг. и до 1,11 % в 2010–2015 гг. Одновременно наблюдается старение населения планеты – увеличение среднего возраста с 22,1 года в 1970 г. до 27,9 лет в 2000 г. и 29,2 лет в 2013 г., что за 43 года составило 32 %. По среднему варианту демографического прогноза ООН, эти тенденции в будущем сохранятся, и темпы прироста населения Земли сократятся до 0,34 % в 2045–2050 гг., а средний возраст увеличится до 36 лет к 2050 г. Это означает снижение доли населения в трудоспособном и инновационно-активном возрасте, увеличение количества стран, охваченных депопуляцией (Яковец, 2015: 142).
-
15 января 2020 г. в Послании Президента РФ Федеральному собранию был оглашен высший национальный приоритет – сбережение и приумножение народа России – и поставлена задача достичь коэффициента рождаемости 1,7 к 2024 г.1 Отметим, что данный коэффициент незначительно превышает коэффициент 1,3 в 1943 г. Ещё в 2012 г. в своей программной статье, посвященной справедливости как фундаменту социальной политики России, В.В. Путин отмечал, что без долгосрочного проекта развития человеческого потенциала «мы рискуем превратиться в глобальном смысле в “пустое пространство”, судьба которого будет решаться не нами»2, учитывая, что на территории России сосредоточено порядка 40 % мировых природных богатств, а население составляет всего 2 % от жителей Земли.
Целями демографической политики России на период до 2025 г. названы создание условий для роста численности населения к 2025 г. до 145 млн человек, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет3.
В контексте достижения указанных целей в «Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года» содержится требование обеспечить информационную поддержку проведения демографической политики России, расширить социальную рекламу в средствах массовой информации, выпуск тематических теле- и радиопрограмм, газет и журналов, разработку учебных программ, шире информировать население о возможных опасностях для жизни и здоровья, связанных с наиболее распространенными заболеваниями, эпидемической обстановкой, стихийными бедствиями и техногенными авариями, с появлением на рынке опасных для здоровья товаров, а также о мерах, позволяющих предупредить их вредное воздействие на здоровье человека. Также в данном документе содержится рекомендация разработать нормативно-правовую базу для проведения государственной информационно-просветительской кампании, направленной на понимание ценностей материнства и отцовства, повышение статуса родительства, на переход от малодетной семьи к семье, имеющей не менее двух детей4. Однако в контенте масс-медиа мы не наблюдаем реализации указанных выше указаний и рекомендаций.
Среди современных институциональных условий, в которых протекают социально-экономические процессы, называют разрывы в развитии – состояние, при котором уровень развития человеческого капитала не соответствует качеству институциональной среды. Последствиями этого становится утечка мозгов, происходящая не только в форме трудовой эмиграции, размывания элиты (exit strategies), но и в форме переноса центров прибыли предприятий hi-tech, IT-сектора и «новой экономики» за рубеж.
Отметим, что такой важнейший аспект стратегии социально-экономического развития, как формирование информационного поля, влияющего на состояние общественного сознания, разработан в настоящее время достаточно слабо. Вопросы повышения уровня политической культуры граждан практически не рассматриваются. Зачастую люди инертны, имеют низкий уровень мотивации к участию в процессах разработки и общественного обсуждения насущных проблем даже на уровне муниципальных образований, в которых они проживают. Это обусловлено главным образом недоверием к власти, убежденностью в том, что их мнение власть не интересует, и политические решения будут приниматься без учета их интересов и ожиданий.
Практика активного участия граждан в обсуждении проектов политических решений составляет базовую часть любой развитой политической культуры. Обсуждение того, чего люди категорически не желают в своем будущем, уже является первым шагом в совместной работе. Цифровые технологии способны обеспечить широчайший охват всех заинтересованных в данной работе элементов гражданского общества. А следующим шагом становится моделирование наиболее приемлемого образа будущего.
Список литературы Взаимодействие гражданского общества и цифровых технологий в формировании политической инфраструктуры социальноэкономического развития России
- Бло И. Прямая демократия. Единственный шанс для человечества. М., 2015. 304 с.
- Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 60-74.
- Кин Дж. Демократия и декаданс медиа. М., 2015. 312 с.
- Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. М., 1996. 287 с.
- Фукуяма Ф. Социальный капитал // Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. М., 2002. С. 121-148.
- Хэлд Д. Модели демократии. Третье издание. М., 2013. 544 с.
- Шваб К. Четвертая промышленная революция. М., 2017. 285 с.
- Шваб К., Дэвис Н. Технологии Четвертой промышленной революции. М., 2018. 317 с.
- Щёголев Е.Н. Территориальное общественное самоуправление как элемент политической инфраструктуры безопасного развития муниципальных образований в условиях цифровизации // Управленческое консультирование. 2021. № 11 (155). С.156-163. https://doi.org/10.22394/1726-1139-2021-11-156-163.
- Яковец Ю.В. О системе долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций. Научный доклад. М., 2015. 212 с.
- Bessette J. Deliberative democracy: The majority principle in republican government // How democratic is the Constitution? Washington, D.C.: AEI Press, 1980.
- Easton D. A Systems Analysis of Political Life. N.Y.: John Wiley&Sons, 1965.