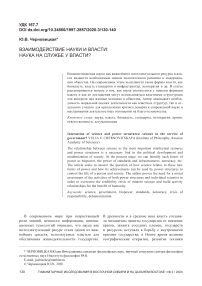Взаимодействие науки и власти: наука на службе у власти?
Автор: Черновицкая Юлия Вячеславовна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Методология социально-гуманитарного познания
Статья в выпуске: 3 (53), 2020 года.
Бесплатный доступ
Взаимоотношения науки как важнейшего интеллектуального ресурса и власти являются необходимым звеном политического развития и модернизации общества. На современном этапе выделяются такие формы власти, как биовласть, власть стандартов и инфраструктур, нетократия и др. В статье рассматривается вопрос о том, как наука соотносится с новыми формами власти и как ее достижения могут использоваться властными структурами для контроля над жизнью человека и общества. Автор доказывает необходимость моральной оценки деятельности как властных структур, так и отдельного ученого для преодоления кризиса доверия к современной науке и выстраивания деятельностных отношений на благо человечества.
Наука, власть, биовласть, стандарты, нетократия, кризис ответственности, дегуманизация
Короткий адрес: https://sciup.org/170175951
IDR: 170175951 | УДК: 167.7 | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-3/130-140
Текст научной статьи Взаимодействие науки и власти: наука на службе у власти?
В современном мире при возрастающей роли знаний, ценности информации, инновационных технологий очевидно, что наука как интеллектуальный ресурс стала одним из важнейших средств, используемых властью для обеспечения жизнедеятельности государства.
В древности и в средние века власть создавала механизмы защиты государства от внешних врагов, захвата соседних племен, государств и ресурсов, вступала в борьбу с внутренними врагами государства; в Новое время великие географические открытия, развитие техники и производства, усложняющаяся хозяйственная деятельность, индустриализация, экспансия европейской цивилизации потребовали от власти строгих дисциплинарных форм учета и контроля финансов, капитала, деятельности работников (в основном ‒ бывших крестьян), занятых на производстве и т.п. В ХХ в. с развитием пропаганды и идеологии возрастает власть прессы и иных СМИ. В связи с современными реалиями можно выделить новые формы власти, такие как биовласть, власть инфраструктур [19, с. 235‒244] с искусственно созданными системами потребления и стиля жизни, нетокра-тию (впервые новый правящий класс и форма управления обществом названы так А. Бардом и Я. Зодерквистом [2]) и др., и уже не обойтись без новых социальных технологий власти. Так, в качестве актуального примера формирования властью общественного мнения можно привести технологии социального конструирования образа страны [15], когда, меняя восприятие, а не суть явления, оперируя цифрами, можно представить многонациональное государство почти мононациональным для достижения эффекта сплоченности общества. Стимуляция учебной и трудовой миграции также представляется целью и инструментом социальных технологий.
С ростом научного знания растет и социальная функция науки, наука становится социальным институтом, интеллектуальной общественной силой. Однако интересы научного сообщества, формирующего институт науки, и государства, в рамках которого и существует наука как социальный институт, не всегда совпадают, а подчас и значительно различаются. А нужна ли вообще государству наука? Развитая наука ‒ это достойный способ существования, конкурентоспособность цивилизованного государства, кроме того ‒ это «го сударственный суверенитет и безопасность, а также эффективность государственного управления» [22, с. 4, 6]. Рассмотрим, как наука соотносится с новыми формами власти.
Биовласть
Современная наука уже немыслима без биотехнологий, где используются достижения таких наук, как генетика, молекулярная и клеточная биология, эмбриология и т.д. Споры и этические вопросы вызывают такие отрасли, как биомедицина (генная инженерия, клонирование, различные методы искусственного размножения), использование трансгенных организмов. Становится актуальной тема осуществления биовласти, понимаемой как технологии управления, механизмы организации жизни (как общества, так и отдельного индивида), человеческой телесности (например, со стороны здравоохранения и образования). М. Фуко, например, обращаясь к социальной политике управления обществом, выделял области, в которых численность популяции могла бы регулироваться. «В этих точках репродуктивная мощь популяции может быть взята под контроль и по возможности приведена к норме» [9, с. 102]. Государству как организму, системе, важна проблема воспроизводства населения. Обстоятельства, препятствующие воспроизводству, будут восприниматься как социальные патологии, и с ними предложено будет бороться. Достаточно проследить развитие системы здравоохранения. Если сначала обращалось внимание на количество рождений и соотношение рождений и смертей, то далее внимание распространяется на период детского развития, до того момента, когда ребенок может стать полезным обществу. Со второй половины ХVIII ʙ. медицина в лице го сударства активно внедряется в область семьи и детства. Проявляется забота о младенцах, далее обращается внимание на тему воспроизводства населения, а значит ‒ на женщину-мать (развиваются гинекология и психиатрия, которые становятся главными инструментами поощряемого государством медицинского контроля над женским телом [10, с. 86]). Такие явления, квалифицируемые государством в качестве социальных патологий, как гомосексуальность, мальтузианство или чайлдфри сообщество, болезни, пьянство, самоубийство, безумие, неконтролируемая государством контрацепция, должны обязательно находиться под контролем и регулироваться. Наука играла ведущую роль в этом регулировании и формировала стратегии государственного управления населением.
Наука сама задает направление исследований, результаты научных исследований выступают причиной формирования, источником биовласти. Однако сама же наука и предостерегает власть от чрезмерного увлечения внедрением и использованием результатов исследований, коммерциализации, в частности, медицины. «Биоэтики отметили общую тенденцию коммерциализации многих сфер медицины, связанных с биотехнологиями, ‒ искусственно рожденные дети и репродуктивное здоровье людей становится предметом продажи, так же как и части человеческого тела ‒ товаром» [12].
Биомедицинские технологии превращают такие неизменяемые в прошлом вещи, как пол или внешность, в социальную условность. Исчезают основные традиционные ценности, связанные с отношением к жизни, благодаря биотехнологиям изменяется понятие живой и неживой, вновь актуален вопрос։ что такое человек? «Продолжающееся размывание границ между жизнью и нежизнью неумолимо ведет к деформации понимания жизни и отношения к ней, ведь если нет ничего “однозначно жи‐ вого”, то исчезают и основные традиционные ценности, связанные с отношением к жизни» [4, с. 353]. Такие технологии, как ЭКО или пре‐ натальная диагно стика, передовые и необходи‐ ᴍые с одной стороны, с другой ставят под со‐ мнение жизнь как самоценность, ведь ее можно создать или, наоборот, прекратить. Некоторые исследователи даже считают, что «пренаталь‐ наᴙ диагностика на современном этапе исполь‐ зуется главным образом не как средство для мо‐ билизации моральной и медицинской помощи, а как основание для инфантицида, как орудие политики “очищения расы” от неполноценных людей» [3, с. 211]. Таким образом, влияя на от‐ дельного человека и его телесность или регу‐ лируя жизнь населения в целом посредством образования, здравоохранения, демографиче‐ ской политики и др., власть превращает жизнь в политический объект, рассматриваемый с точ‐ ки зрения экономической эффективности, что, по мнению М. Фуко, может привести к тому, что крайними формами биовласти станут та‐ кие явления, как евгеника, расовая политика, а также массовый геноцид, осуществляемый по расовому либо национальному признаку, обыч‐ но обосновываемый необходимостью защиты жизни рода [14, с. 122‒123]. Научная медицина обретает власть, человек становится объектом контроля государства. От природы человека зависит прочность властных и общественных конструкций современного мира. Наука сᴫу‐ жит фундаментом для различного рода иници‐ атив государства. К сожалению, современный человек осознает, что наука не всегда следует моральным принципам. Haпример, ученые при‐ зывают к мораторию на генную модификацию человеческих эмбрионов, выражая озабочен‐ ность по поводу этичности и безопасности этих исследований (см., напр.։ [23]). Тем не менее, остановить исследования представляетсᴙ не‐ возможным, не существует сдерживающих юридических регулятивов, поэтому, нaпример, в Китае продолжают проводиться исследования по изменению ДНК человеческих эмбрионов, о результатах этих исследований уже опублико‐ вана первая в мире научная статья.
Научные исследования развиваются настоль‐ ко активно, что, по нашему мнению, нельзя утверждать, что они заказываются, управляются только властью. Принимая во внимание морато‐ рий на генную модификацию человеческих эᴍ‐ брионов, они ведутся даже ей вопреки. Однако власть использует научную основу для контро‐ ᴫᴙ жизнедеятельности населения и отдельного человека. Скажем, не лишена основания точка зрения, отрицательно оценивающая следствия использования генетики как фундамента си‐ стемы профилактики генетических отклонений еще до рождения. В сознание людей внедряется оправдание допустимости применения науч‐ ных достижений с целью уничтожения людей, пусть еще и не родившихся (опустим сейчас рассуждения о том, с какого момента эмбрион становится человеком, т.к. единого мнения по этому вопросу не достигнуто), репродуктивная функция человека становится объектом меди‐ цинского контроля и, таким образом, объектом контроля государства.
Власть инфраструктур
Современная власть все больше переходит от внешнего давления к внутреннему воздей‐ ствию. Индивид подвергается стандартизирую‐ щему воздействию со стороны систем здраво‐ охранения, образования, экономики, политики, культуры. Социальные науки, пожалуй, больше подвержены влиянию власти. Властью устанав‐ ливается планомерная дисциплина, учет, над‐ зор, известные заранее и принятые обществом налоги, штрафы, обязательства. Посредством внедрения различных идеологий при помощи СМИ начинают навязываться стандарты пове‐ дения, осуждается, перепрофилируется или ку‐ пируется поведение, социально недопустимое с точки зрения власти. Появляются стандарты экономических инстанций власти։ достойный уровень зарплаты, кредиты, обладание доста‐ точным количеством благ, растущий уровень потребления товаров и услуг. Используется раз‐ ветвленная система права, достижения совре‐ менной педагогики. Наука работает на власть стандартов։ так, фармакология активно разви‐ вает производство витаминов и БАДов, медицина ‒ востребованную отрасль пластической хирургии, этика задает стандарты морали и нравственности. Определенные правила поведения принимаются за стандарт, и индивид уже не может от них отклониться. Чтобы контролировать систему полностью, нужно вызвать ее стагнацию, не допустить ее развития, изменчивости и многообразия. Для манипулирования социальными процессами объект должен быть подобен непрерывно и неизменно работающему механизму, но как это осуществляется при провозглашенном в мире многообразии культур, и, соответственно, многообразии стандартов? Такие мыслители, как Ф. Фукуяма, считали, что независимо от культуры в человеке есть что-то универсальное, и если власть будет основываться на этом, то это будет крепкая и справедливая власть [18]. Глобализирующееся общество решило, что именно оно обладает данными универсальными признаками, и поэтому может диктовать другим стиль жизни и поведения. Власть стандартов и инфраструктур, действительно, явственней проявляется именно в глобализованном обществе. Возможно, же сткая дисциплинарная власть отходит на задний план, человечество теперь находится под управлением скрытых систем власти стандартов и инфраструктур. Важнейшим практическим направлением такой власти является поддержание в работоспособном состоянии имеющихся инфраструктур. «Власть, направленная на сохранение или изменение природы человека, стремится достичь соответствия этой природы признанному комплексу стандартов. Современному глобализованному человечеству нужны только такие люди, которые совместимы со всей системой стандартов и инфраструктур, которые обладают предсказуемым наборов стандартных вариантов поведения (человек потребляющий, человек коммуницирующий, человек экономический, человек патриотический…)» [19, с. 241].
Власть ставит цели, направляет производственный процесс, стимулирует науку способствовать изменению объектов в нужном для государства направлении. Наука работает на власть стандартов, и современное знание становится направлено на потребление и наращивание военной и экономической мощи государств, улучшение качества и продолжительно сти жизни, рациональное использование ресурсов и охрану окружающей среды.
Нетократия
С появлением информационных технологий, информационно-психологического направленного воздействия, именно владение знанием, информацией во многом стало определять конкурентоспособность государства.
Информация является сейчас таким же ресурсом, как энергетические и материальные ресурсы, что стимулирует разработку новых информационных технологий мировым сообществом. Уровень информатизации становится одним из существенных факторов успешного экономического, политического и др. развития и конкурентоспособности каждого общества. Человек, владеющий знаниями, информацией начинает мыслить себя способным не только что-то наблюдать, исследовать и прогнозировать, но и творить։ уровень технического оснащения позволяет человеку практически стать соучастником эволюционного процесса. Современная наука активно участвует в разработке и применении информационных технологий, но все чаще в зону риска попадает сам человек, все чаще он становится объектом разнообразных исследований, экспериментов, объектом управления новой власти. Растут риски и опасности, которым он подвергается. Сетевые информационные технологии не только способствуют консолидации общества, но, скажем, в политической сфере нередко превращаются в политическую пропаганду или даже в политико-правовое воздействие. Как справедливо отмечают исследователи, «информация, как никогда, стала инструментом власти, в форме пропаганды и агитации она стала главным рычагом управления людьми» [8].
Взаимоотношения науки и власти являются необходимым звеном политического развития и модернизации общества. Однако в век технологий возникают вопросы информационно-психологической безопасности личности и влияния на человека информационной среды. С одной стороны, владение информацией как важнейшим ресурсом облегчает возможность распространения этических норм, но, с другой стороны, информационные технологии, проникая в нашу повседневность, иногда даже условно замещая реальность виртуальной реальностью, способны привести к нарушению целостности личности, изменению психического здоровья, выводя человека не только за рамки его физических возможностей, но и за рамки морально-этических норм (например, онлайн-игры или общение в интернете, где не важен пол, возраст, физические данные, а в моральном отношении человек может позволить себе намного больше, чем в реальной жизни). Ускоренное развитие техногенной цивилизации подвергает изменению сознание человека, его восприятие мира, ценностные ориентации, все чаще слышатся предостережения о дегуманизации, деморализации человека, понятие ответственности искажается.
Одна из опасностей широкого распространения информационных технологий связана со снижением ответственности управляющих систем. Включенность виртуальной реальности, воспринимаемой как продолжение реальности реальной, в повседневное человеческое существование снижает степень ответственности лиц, принимающих решения, что может превратить деятельность человека в прямую угрозу для общества. Меняется представление об ответственности, даже наблюдается ее кризис, следствием которого является утрата самого чувства ответственности. Обсуждаются идеи возложения ответственности на информационные системы, которые сегодня принимают решения все в более растущем объеме. Ответственность ‒ качество человека, аспект его нравственной жизни, и осознавать степень индивидуальной ответственности за принятые решения способен только человек. «Анонимность же коллективных действий создает иллюзию безответственности» [16, с. 103] или же «феномен коллективной безответственности» [6, с. 359].
Растут риски и опасности, которым подвергается человек, поэтому от новых форм власти, нетократии, биовласти, власти инфраструктур и др., требуется необходимость включения этической составляющей в каждую стадию научных исследований от фундаментальных исследований до технических разработок.
«По мнению Хайдеггера, ничто не угрожает человечеству столь сильно, как наука, ибо она не мыслит. Многие убеждены, что цели и устремления науки и общества в наши дни разделены и вошли в неустранимые противоречия, что этические нормы современной науки едва ли не противоположны общечеловеческим социально-этическим и гуманистическим нормам и принципам, а научный поиск давно вышел из-под морального контроля» [5, с. 73], но он может находиться под контролем закона, власти.
Если наука используется для обоснования и усиления имперских, национально-государ- ственных и этнических характеристик и амбиций (например, таких как претензии государств не только на собственность, но и на мысли и продукты творчества людей), то она действительно может принести вред человечеству.
К потенциально опасным для человечества тенденциям развития науки ряд исследователей отно сят тенденцию прикладнизации фундаментальной науки (например, И.Т. Фролов). Ученые, считающие, что мы живем в век технонауки, утверждают, что фундаментальное знание потеряло свою самоценность, а истина как идеал научного знания замещается критерием эффективности и практической пользы. Наука становится товаром, коммерциализируется, она все больше служит власти. Современное общество нацелено на прикладнизацию науки, фундаментальные исследования как долгосрочные проекты, не дающие мгновенных результатов, поддерживаются и спонсируются (особенно государствами развивающимися или в периоды кризисов) недостаточно. Часть ученых (например, И.Т. Фролов, Б.Г. Юдин, В.Г. Горохов, О.Е. Столярова и др.) считают, что различие между фундаментальными и прикладными исследованиями исчезает, идет интенсивный процесс прикладнизации науки, мы живем в век технонауки ‒ симбиоза науки и технологии, их соединения в некое единое целое. Менее распространена точка зрения (напр., Е.А. Мамчур), что фундаментальные и прикладные исследования имеют различные цели и ценности, различия между ними по-прежнему сохраняются.
В философии утвердилось положение, что власть и наука ‒ это совсем разные понятия. Эта позиция предполагает специфический гносеологический подход к анализу научного знания, которое или по своей сути, или по некоторым своим формам объявляется ценностно нейтральным, объективно истинным и чуждым отношениям власти [11]. Наука и власть существуют, основываясь на такой модели отношений, где они взаимозависимы и используют друг друга. Институты го сударства используют результаты научного знания, наука же существует, функционирует, развивается за счет государства. Для науки ХІХ в. естественно было использовать го сударство в качестве средства своего развития (с этим были согласны, например, Ф. Шиллер, И.Г. Фихте, Ф. Шеллинг и др.). Также это по служило основой реформы университетского образования в Германии. В идеале, по В. Гумбольту [11], го сударство не должно руководить системой образования и научными исследованиями, не должно вмешиваться в научную деятельность, кроме как предоставлять финансирование. Цель образования ‒ поиск истины, в университетах, назначение которых ‒ формирование свободного гражданина, происходит приобщение к чистой науке, одним из условий научной деятельности является свобода. Государство не может вмешиваться в частные сферы жизни, которыми, по В. Гумбольту, как раз и являются образование и научная деятельность. Идеи В. Гумболь-та были возрождены после Второй мировой войны и положены систему управления наукой, существовавшую в ФРГ.
Конечно, фундаментальные науки в целом более автономны и независимы от власти, направлены на изучение объективной реальности, более близки идеалам поиска истины, но они должны еще отстоять свое право на существование, так как «ресурсному обществу и экономике ренты знания не нужны» [13]. А.П. Огурцов предлагал рассматривать науку как социальный институт, обладающий особой системой норм и ценностей, как социальную по природе познавательную деятельность, осуществляющуюся научным сообществом и регулируемую определенными регулятивами и идеалами, и как систему знания [11]. Если первые два подхода рассматривают науку в связи с социокультурной системой, то в третьем подходе научно е знание трактуется как «чистое», ценностно нейтральное, существующее вне контекста властных отношений в обществе. Если знание нацелено на промышленную технологию либо социальную инженерию, оно перестает быть нейтральным поиском истины. Поэтому точка зрения, что есть прикладная наука, направленная на удовлетворение потребностей человека, и наука неангажированная, этически нейтральная, имеет как давнюю философскую традицию, так и современных последователей. В настоящее время наука все ближе к потребностям, устремлениям человека. «И дело при этом вовсе не ограничивается одним лишь “обслуживанием” человека ‒ наука и технологии приближаются к нему не только извне, но и как бы изнутри, в известном смысле делая и его своим произведением, проектируя не только для него, но и самого же его» [21, с. 45‒57] (например, генетические, эмбриологические и другие биомедицинские исследования, связанные с клонированием).
Разрыв между теоретическим и практическим разумом присущ еще трансцендентализму Канта, а также его по следователям ‒ Когену, Наторпу, Виндельбанду [11] и др. Также и у Гегеля, когда речь идет о логическом исследовании, все исторические и социокультурные составляющие не должны учитываться при поиске чистого знания. Делаются попытки исключить научно-теоретическое знание из сферы социокультурного исследования. Такой же точки зрения придерживался и Гуссерль, развивая феноменолого-эйдетическую концепцию науки (в последствие Гуссерль пересмотрел эту позицию, указывая на социальную ангажированность науки). Маннгейм о ставлял вне поля социологического анализа математику и естественные науки. Итак, давнюю философскую основу имеет позиция, где наука делится на чистую, фундаментальную, направленную исключительно на поиск истины и познание мира, и науку, направленную на удовлетворение потребностей человека и его творений, подчиняемую авторитетам власти и управляемую ими.
Не лишена оснований точка зрения, что в некоторых случаях мораль может тормозить развитие науки. Но этические основания науки должны служить залогом существования человечества. Несколько де сятилетий назад морально-религиозный запрет накладывался на анатомирование трупов, пересадку органов, морально осуждалась вивисекция, что, конечно, тормозило развитие наук о человеческом организме.
Вопрос о моральной ответственности ученого рассматривается биоэтикой ‒ учением о нравственной стороне деятельности человека в медицине и биологии. Можно ли испытывать лекарственные средства, проводить биологические эксперименты или использовать в качестве фармацевтического «сырья» человеческие зародыши, плод, у которого практически отсутствует головной мозг, или же живые «останки» (т.е. тела с бьющимся сердцем, но погибшим мозгом)? Как относиться к эвтаназии? Не менее актуальны вопросы։ насколько этично использовать результаты «неэтичных» экспериментов, важных и ценных с научной точки зрения, однако вызывающих тревогу с точки зрения морали? Насколько наука находится под влиянием власти, оправдывает морально сомнительные запросы власти, или же сама направляет исследования?
Существует точка зрения, что каждый использующий данные нацистских эксперимен- тов становится в моральном отношении соучастником преступлений нацистов. Haпример, Уильям Зидельман пишет: «Признавая ценность [нацистских] исследований, мы одобряем философию Гиммлера, провозглашающую некоторые категории людей “бесполезными”. Тот, кто использует данные, полученные путем бесчеловечных экспериментов, извлекает пользу из страданий жертв. Ставить ценность познания как такового выше ценности человеческой жизни аморально» [20, с. 339]. Признание таких исследований действительными ведет к признанию, хотя бы частично, всей нацистской системы правосудия. На Нюрнбергском процессе обвинения были предъявлены 23 врачам, практиковавшим в концлагерях и ставивших эксперименты на живых людях. Они были о суждены, но другие врачи (немалая часть из которых были членами нацистской партии), ученые и преподаватели университетов, несмотря на последовавшую после войны денацификацию, почти все сохранили свою практику. Многие судебные дела были выиграны по причине того, что по сути им можно было вынести только моральные обвинения, но в уголовном кодексе, по которому их могли бы обвинять, нa-пример, понятие убийства не распространялось на недееспособных людей, потому что «они не обладали мышлением».
Даже в 1989 г. еще обнаружилось, что в научно-исследовательской и учебной работе до сих пор используются образцы из эпохи нацизма. «Тюбингенский университет (Германия) выступил с публичными извинениями и создал комиссию по расследованию, что послужило образцом для других вузов. А Общество Макса Планка призналось, что в его коллекции имеются ткани жертв эвтаназии, в том числе 700 детей» [1].
В настоящее время все больше ученых придерживаются точки зрения, что наука тесно связана с политикой, зависимой наукой проще манипулировать, познавательная и производственная деятельность человека имеет также и отрицательные последствия, любое открытие может быть использовано как во благо, так и во зло. Еще в Веймарской Германии ученые убеждали политиков в необходимости использовать научные до стижения для военных целей. Так, предлагалось синтетическое производство азота для изготовления снарядов, когда блокада союзников перекрыла ввоз в Германию натуральных источников азота. Продвигалась идея развития химического оружия, в особенности отравляющих газов (угрожающий прецедент использования науки в военных целях имел место во время Первой мировой войны). Целый институт был превращен в Центр исследования и разработки химического оружия [17], в котором разрабатывались новые отравляющие газы, противогазы и другие средства защиты, газовые снаряды и другие средства поражения, а также эффективные стратегии использования химиче ского оружия.
По мнению Э.И. Колчинского, как показала деятельность химиков В.Н. Ипатьева, Н.С. Кур-накова, А.Е. Чичибабина в России и Ф. Хабера в Германии, Первая мировая война способствовала формированию нового типа ученого — предпринимателя и организатора производства, не только выступающего научным консультантом военных ведомств, но практически отрицающего принципы гуманизма, если это идет в разрез с интересами собственной страны или выгодами тех или иных компаний. Так, создатель химического оружия Ф. Хабер способствовал использованию мер, разработанных в прикладной энтомологии для борьбы с вредителями хозяйственно полезных растений и переносчиками возбудителей болезней, для тотального уничтожения вражеских армий. Произошел перенос биотехнологий в сферу вооружений, как бы открывая эру разработки оружия массового уничтожения [7, с. 132].
В развитии самолетостроения были задействованы немецкие ученые и инженеры, огромное количество денежных ресурсов было инвестировано в междисциплинарные исследовательские центры, тесно связанные с промышленностью. Во времена Третьего рейха были воссозданы институты, созданные во время Первой мировой войны, и возобновилось тесное сотрудничество между учеными-академиками и инженерами, промышленниками и государством. После Второй мировой войны, помимо медиков, союзники причислили ученых промышленников-предпринимателей, работающих на военные нужды, к военным преступникам, однако они себя таковыми не считали, так как работали на благо страны, развивая науку.
Также В.И. Вернадский одним из первых поставил вопрос о возможности использования атомной энергии в военных целях, но он был обеспокоен тем, что человек еще не способен правильно использовать ту силу, которую может дать ему наука. Ограничения, существую- щие в рамках философии науки, необходимы сейчас в том числе при рассмотрении ядерных разработок. Было воспроизведено ядерное и термоядерное оружие гигантской мощности, военное применение которого может привести к «ядерному омнициду», т.е. полному самоуничтожению человечества. Однако В.И. Вернадский верил в силу человеческого разума и видел залогом перехода биосферы в ноосферу развитие научных изысканий, использование их в производстве, планирование, новые формы организации и государственную поддержку научных исследований. В.И. Вернадский обращал внимание на социальную ответственность ученых, указывал на важность последствий их открытий. Кто как не ученый понимает возможность разрушительного характера последствий человеческой деятельности, кто как не ученый способен разработать и внедрить в общество сдерживающие регулятивы или, по крайней мере, говорить о режиме секретности или опасности дальнейшей разработки определенных технологий. Вопрос о том, способен ли человек воспользоваться той силой, которую предоставляет ему наука, направить ее на пользу и развитие, а не на уничтожение себя и места своего обитания, остается открытым. Если под цивилизацией подразумевать не только рост промышленного потенциала, технологических ноу-хау, материальный прогресс, но и рабство, войны, эксплуатацию и лагеря смерти, то даже такое событие, как «Холокост, полагает Ричард Рубинштейн, свидетельствует о прогрессе цивилизации» [24]. Но так ли это? Указывается на кризис доверия к современной науке, к различным мировоззренческим системам (в том числе и к религии), которые оказались неспособными на практике подтвердить соблюдение прав человека, следовать главным принципам гуманизма. Некоторые, тем не менее, полагают, что действия ученого следует рассматривать и судить, исходя не из их последствий, а из дополнительных факторов, например, его намерений, существовавших в период его деятельности. Использование данных, пусть даже нацистских экспериментов, но в интересах человечества ‒ долг ученого. Необходимо закладывать аксиологическую составляющую в основу оценки последствий инновационных технологических разработок.
Чрезмерное вмешательство го сударства в дела науки (как, собственно, и равнодушие к ее нуждам и нежелание заботиться о долгосроч- ных проектах) чревато отсутствием потенциала развития науки. А в случае науки в СССР, например, еще и потерей независимости, и потерей многих ученых (физическое истребление или последующий отъезд за рубеж). Для полноценного развития науке нужна независимость исследований, но при этом и поддержка государства, а иногда, как в случае с Большим адронным коллайдером, и сразу нескольких государств.
Таким образом, наука ‒ важнейший интеллектуальный ресурс, общественная сила, обеспечивающая жизнедеятельность государства. Однако интересы научного сообщества и государства, в рамках которого наука существует как социальный институт, часто не совпадают. Актуально сть современной ситуации в том, что наука все ближе к потребностям, устремлениям человека, причем настолько, что она не только занимается окружающей человека средой, но и проникает во внутреннюю среду человека (например, генетические, биомедицинские исследования и др.). Остро стоят вопросы информационно-психологической безопасности личности и влияния на человека информационной среды, сохраняется вероятность манипулирования научным знанием и его применения властными структурами на невыгодных для личности условиях.
В периоды кризисов именно наука может послужить опорой го сударству. В современных реалиях знание, информация ‒ важнейший стратегический ресурс. Чем стабильнее и сильнее власть в цивилизованном государстве, тем более эта власть стремится иметь развитую передовую науку. Однако в настоящее время все больше ученых придерживаются точки зрения, что наука тесно связана с политикой, может находиться на службе у власти, исследования могут заказываться и контролироваться го су-дарствами, познавательная и производственная деятельность человека имеет также и отрицательные последствия. Передовые достижения науки могут использоваться и военных целях, могут служить средством господства и подчинения, провоцировать неравенство. Неконтролируемые разработки и применение оружия могут привести к самоуничтожению человечества. Человек, вооруженный технологиями, ощущает себя за рамками не только своих физических возможностей, но и привычных морально-этических норм, что приводит к необратимым по следствиям: дегуманизации человека, экологическим и гуманитарным катастрофам и трагедиям. Так как меняется представление об ответственности, наблюдается ее кризис, возникает необходимость ограничений на исследования. Именно ученый может оценить и предвидеть разрушительный характер последствий человеческой деятельности, разработать и внедрить в общество сдерживающие регуля-тивы или, по крайней мере, настаивать на режиме секретности или опасности дальнейшей разработки определенных технологий. Научные достижения становятся до стижениями всего человечества, ученые, делающие открытия, определяющие тенденции будущего развития, вместе с тем не могут контролировать процесс использования научных достижений. Но если морально ответственными за негативные социальные последствия использования научных открытий будут не только ученые, занятые прикладными исследованиями и технологиями, но и ученые, занятые в сфере фундаментальных исследований, а властные структуры помимо интересов выгоды будут оценивать риски и опасности научных исследований и разработок, возможно, кризис доверия к современным мировоззренческим системам и к науке в частности будет преодолен и наука будет развиваться на благо человечества.
Список литературы Взаимодействие науки и власти: наука на службе у власти?
- Базелон Э. Следы нацистской науки преследуют современных ученых // РИА Новости. 18.11.2013 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ria.ru/20131118/977645743 .html
- Бард А., Зодерквист Я. NetOKpamfl. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004.
- Гнатик E.H. Неоевгеника в дискурсе отечественной культуры: взгляд сквозь призму гуманизма // Человек и его будущее: Новые технологии и возможности человека. М.: ЛЕ-НАНД, 2012. С. 204-215.
- Гнатик E.H. Трансгуманистические проекты в эпоху конвергентных технологий // Человек и его будущее: Новые технологии и возможности человека. М.: ЛЕНАНД, 2012. С. 343-354.
- Гуревич П.С. Горизонты человеческого существования // Человек и его будущее: Новые технологии и возможности человека. М.: ЛЕНАНД, 2012. С. 72-86.
- Гуревич П.С. Технологии свихнувшегося общества // Человек и его будущее: Новые технологии и возможности человека. М.: ЛЕНАНД, 2012. С.355-372.
- Колчинский Э.И. Наука, власть и общество в периоды кризисов: историко-сравнительный анализ // Эпистемология и философия науки. 2008. Т. 15. № 1. С. 132-148.
- Леонов Н.С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях. М.: МГИМО, 1996.
- Михель Д. Власть, управление, население: возможная археология социальной политики Мишеля Фуко // Журнал исследований социальной политики.2003.№ 1. С. 91-106.
- Михель Д.В. Тело в западной культуре. Саратов: Научная книга, 2000.
- Огурцов А.П. Философия науки: двадцатый век: Концепции и проблемы: в 3-х ч. Ч. 2: Философия науки: Наука в социокультурной системе. СПб.: Изд. дом «Mipb», 2011.
- Романова В. Человек перед лицом новейших биомедицинских технологий // Российский институт стратегических исследований. 28.10.2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://riss.ru/analitycs/2289/
- Рубцов A.B. Наука и власть // Отечественные записки. 2014. № 1 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://magazines.gorky. media/oz/2014/l/nauka-i-vlast.html
- Современная западная философия: энциклопедический словарь. М.: Культурная революция, 2009.
- Социальные технологии: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Под ред. И.Б. Орловой. М.: Юрайт, 2019.
- Технонаука и социальная оценка техники (философско-методологический анализ) / Под ред. И.В. Черниковой. Томск: Изд-во Том. унта, 2015.
- Уолкер М. Наука в Веймарской Германии // Науковедение. 2000. № 2. С. 143-157.
- Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции. М., 2004.
- Шайхутдинов Р.Г. Новые механизмы власти // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. 2006. № 4. С. 235-244.
- Этическая и правовая сторона проведения клинических исследований: сборник статей и комментариев. М.: Практическая медицина, 2013.
- Юдин Б.Г. Наука в обществе знаний // Вопросы философии. 2010. № 8. С. 45-57.
- Якунин В.И., Сулакшин С.С., Вилисов М.В., Соколов Д.В. Наука и власть: проблема коммуникации. М.: Научный эксперт, 2009.
- Lanphier, Е. et al., 2015. Don't edit the human germ line. Nature, Vol. 519, pp. 410-411.
- Rubenstein, R.L., 1978. The cunning of history. Mass death and the American future. New York: Harper and Row.