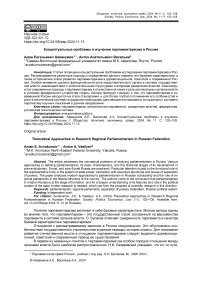Взаимодействие России и Китая в Центральной Азии на фоне меняющегося международного порядка: западный взгляд
Автор: Юй Ю.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Глобальная геополитическая ситуация сегодня постоянно изменяется. Происходит перераспределение сил, перезаключаются старые союзы и формируются новые связи. Взаимодействие России и Китая в Центральной Азии очень важно в этом контексте. Пекин участвует в развитии инфраструктуры и экономического сотрудничества с государствами региона в рамках инициативы «Один пояс, один путь», а Москва имеет исторические связи с ними. Западные ученые придерживаются собственных взглядов на выстраивание многостороннего взаимодействия в данном регионе, которые можно свести к пяти: перспективное стратегическое партнерство, экономическое сотрудничество и взаимосвязанность, геополитическая конкуренция, евразийская интеграция, региональное реагирование и балансирование. Целью данной работы является репрезентация западного взгляда на развитие российско-китайского взаимодействия в Центральной Азии на фоне меняющейся международной ситуации.
Международный порядок, центральная азия, инициатива «один пояс, один путь», механизм «китай - центральная азия» («c + c5»), шанхайская организация сотрудничества, евразийский экономический союз
Короткий адрес: https://sciup.org/149147018
IDR: 149147018 | УДК: 327(470:510) | DOI: 10.24158/pep.2024.11.12
Текст научной статьи Взаимодействие России и Китая в Центральной Азии на фоне меняющегося международного порядка: западный взгляд
Понятие парламентаризма включает в себе базовые характеристики. Многие авторы едины во мнении того, что парламентаризм – это государственный строй, основанный на верховенстве парламента в системе органов власти. О. Булаков отмечает суверенность парламента в качестве базовой характеристики парламентаризма1.
Отношение к рассматриваемому явлению в России неоднозначно. Это обусловлено особенностями государственного строительства в разные периоды истории страны. Для понимания развития отечественной мысли в отношении парламентаризма следует выделить дореволюционный, советский и современный период ее существования.
В первом из названных понятие о парламентаризме как особом порядке отношений между органами власти было наиболее распространенной. Н.И. Лазаревский указывал, что он, по сути, является зависимостью правительства от органов народного представительства. В этом случае институт доверия, по мнению ученого, служит стимулом для принятия правительством наиболее оптимальных для народа решений (Лазаревский, 1913: 667).
К.Н. Соколов утверждал, что деятельность министерств легитимна только в случае ее одобрения со стороны нижней палаты высшего представительного органа (Соколов, 1912: 319).
Следует подчеркнуть, что в дореволюционном периоде парламентаризм в целом понимался как система особого взаимоотношения правительства с представительным органом. То есть акцент делался на отношении парламента к правительству. Доверие между ними понималось как основа гармоничного развития государственной политики1.
В советском периоде определения понятия парламентаризма основывались на субъективных и идеологических взглядах ученых. В этот период термин трактовался в негативном ключе и являлся объектом критики, поскольку считался инструментом выражения интересов господствующего класса. Так, А.А. Мишин отмечал, что парламентаризм – «это особая система государственного руководства общества буржуазией, характеризующаяся разделением труда законодательного и исполнительного при привилегированном положении парламента» (Мишин, 1972).
Советские ученые в качестве базового значения парламента указывали на системообразующий и верховный орган. Вместе с тем разделение ветвей власти подчеркивалось ими как ключевое условие парламентаризма, иллюстрирующего зависимость правительства перед парламентом. Последний в этой системе занимал особое, привилегированное положение. По сути, в понимании парламентаризма не произошло существенных изменений по сравнению с дореволюционным периодом. Поменялась лишь идеологическая трактовка. В советском сознании парламент, либо же представительный орган, являлся инструментом транслирования интересов «правящего класса». Отличие буржуазного парламента от пролетарского заключалось лишь в том, кто представляет интересы населения во властной структуре.
Постсоветский период, который начался с 1991 г., ознаменовал собой новую волну исследований парламентаризма (Булаков, 2021). Вопросы государственного строительства в обновленном государстве стали как никогда актуальны. Ю.Л. Шульженко в своих трудах отмечал, что отечественные государствоведы предлагают большое количество решений, которые зиждутся на различного рода подходах. Он выделяет два главенствующих подхода: четкие и конкретные определения парламентаризма; констатация, перечисление, указание отдельных сторон, признаков данного явления (Шульженко, 2018).
Постсоветские ученые обращают внимание на функционально-структурную часть парламентаризма, понимая его как «особую систему управления государством, структурно и функционально основанную на принципах разделения властей, верховенства закона при ведущей роли парламента в целях реализации конституционно закрепленного полновластия народа» (Жучаев, 2024).
Усиление внимания исследователей к функциональной части парламента в системе органов государственной власти формирует мысль о том, что разделение ветвей власти является базовым и необходимым условием для парламентаризма. Поскольку представительные, законодательные и контрольные функции парламента могут в полной мере проявляться только в вышеперечисленных условиях. Они взаимосвязаны друг с другом. Представительные функции обеспечивают легитимность принимаемых данным органом власти законов, так как за них голосуют избранные народом депутаты. Это поддерживает верховенство права, что является важнейшим условием для реализации законодательных функций парламента. Исполнение законов требует непредвзятого контроля со стороны последнего. Для этого необходимо, чтобы система органов государственной власти основывалась на принципе разделения функций.
К.В. Мурычев описывает парламентаризм как особую систему управления государством, структурно и функционально основанную на принципах разделения властей, верховенстве закона при ведущей роли парламента в целях реализации конституционного закрепления полновластия народа (Мурычев, 2006).
В некоторых определениях парламентаризма исследователи выделяют признак профессиональной деятельности парламента. Авторы этого подхода подчеркивают, что условием качественного разделения власти является профессионализация деятельности в них. Появление подобных трактовок связано с совершенствованием государственного строительства и развитием общества, которое все более требует профессионального подхода в законодательстве.
Стоит выделить те определения, в которых акцент делается на взаимоотношениях «парламент – правительство», «парламент – иные органы государственной власти». Например, В.Е. Чиркин считает разделение ветвей власти необходимым и ключевым условием для выстраивания взаимоотношений, способствующих реализации парламентских полномочий в отношении правительства, в особенности контрольных (Сравнительное конституционное право …, 1996: 511).
Тем не менее в современных подходах определение парламентаризма как взаимоотношения парламента с правительством отходит на второй план в связи с расширением понимания структурно-функциональных особенностей парламента, вызванных развитием системы государственных органов власти, а также усиления в ней роли исполнительных структур.
Следует отметить, что парламентаризм многими учеными рассматривается как система управления государством, а также как государственный строй. М.В. Баглай утверждает, что государственный строй, основанный на верховенстве парламента в системе органов власти, является парламентаризмом. Утверждается мысль о том, что определение парламентаризма в большей степени относится к вопросам организации органов государственной власти1. В этом ключе наблюдается расширение понимания парламентаризма в отечественной мысли в сторону определения представительного органа в качестве системообразующего элемента государственной власти. В таком определении также подчеркивается усиление значимости парламентаризма в современной политической мысли.
Комплексное определение парламентаризма в современных учебниках сформулировано следующим образом: «Парламентаризм – это особая система организации государственной власти, структурно и функционально основанная на принципах разделения властей, верховенства закона при ведущей роли парламента в целях утверждения и развития отношений социальной справедливости и правопорядка» (Шульженко, 2018). В такой дефиниции отражены универсальные характеристики парламентаризма, принятые в современности.
Вместе с тем стоит отметить, что существуют умозаключения отечественных исследователей, основанные на содержательной части понятия «парламент». В этом плане наблюдается соотношение терминов «народное представительство» и «парламентаризм». П.А. Астафичев утверждает, что при парламентаризме наблюдается «квалифицированное народное представительство, ограниченное управлением государственной власти и выражаемое посредством деятельности коллективных представительных органов, состоящих из депутатов»2. Такое определение также выделяет профессионализм парламента как характерную черту современного парламентаризма.
В рамках второго подхода к дефинированию парламентаризма, который акцентирует внимание на совокупности признаков парламентаризма, особый интерес представляют исследования С.А. Авакьяна. Ученый перечисляет ключевые признаки парламентаризма, основанные на профессионализации деятельности депутатов. По его мнению, парламент на профессиональной основе должен принимать законы, утверждать государственный бюджет, влиять на осуществление внутренней и внешней политики государства и соответствующие шаги других государственных органов, формировать ряд властных структур, выполнять задачи парламентского контроля в отношении определенных органов и государственных дел (Авакьян, 1999).
Представительство, постоянная оплачиваемая работа депутатов, их социальный статус, задачи и полномочия, круг дел, формы, методы и стиль работы в совокупности определяют наличие парламентаризма.
Развитие отечественной мысли расширяется в сторону многослойности определения интересующего нас явления. Она выражается в уровнях структуры парламентаризма. На первом из них находится сам парламент как высший орган государственной власти, без которого нет парламентаризма. Следующий уровень характеризуется условиями наличия особой системы взаимодействия парламента с другими органами государственной власти. Последний уровень в определении парламентаризма связан с условиями наличия особой культуры, правовой грамотности населения.
Таким образом, можно проследить развитие отечественной мысли о парламентаризме от его понимания как государственного строя, основанного на особых взаимоотношениях парламента с правительством, до расширения определения рядом характерных признаков, включающих условия целостной политической системы. Изменение трактовки понятия парламентаризма в постсоветском периоде объясняется ростом научного интереса к явлению и усилением значимости парламента на практике. Тем не менее этот процесс задает несовместимые с политической реальностью в России критерии.
Следует отметить, что признаки парламентаризма, заданные С.А. Авакьяном, реализуются в современной Российской Федерации. Согласно 3 пункту статьи 97 Конституции Российской Феде-рации3, «депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной основе». Функции парламента, соответствующие критериям С.А. Авакьяна, также прописаны в Конституции Российской Федерации (Авакьян, 1999).
Однако о наличии в стране полноценного парламентаризма исследователи рассуждают с оговорками, уточнениями и пояснениями. Имеет место быть точка зрения, утверждающая, что в современной России нет парламентаризма. М.В. Баглай утверждал следующее: «Не является государством парламентаризма и современная Россия, этот термин употребляется здесь просто для характеристики всего, что связано с парламентом, то есть без точного научного смысла»1.
Исходя из анализа развития отечественной мысли о парламентаризме, можно отметить, что данное понятие существенно расширяется в сторону его понимания как способа организации системы государственных органов власти, основанной на верховенстве парламента, которая осуществляет свои функции на профессиональной основе. Сказанное дополняется культурно-правовыми условиями формирования сознания населения.
Можно утверждать, что такое понимание парламентаризма является наиболее распространенным и универсальным. Перечисленные критерии и признаки данного явления так или иначе присутствуют в определениях многих авторов. Отличие заключается в акцентах.
Оценка условий парламентаризма в России в его универсальном понимании имеет определенные трудности. Спорным остается вопрос наличия в России главного критерия парламентаризма – верховенства парламента в системе государственных органов власти. Наблюдается зависимость Федерального Собрания Российской Федерации от власти президента. Ю.Л. Шульженко отмечает, что поправки в Конституцию Российской Федерации 2020 г. усилили президентскую власть, изменив баланс сил между исполнительной и законодательной ветвями. Государственная Дума и Совет Федерации оказались в подчиненной роли, что вызывает сомнения в их способности контролировать исполнительную власть. Российский парламентаризм на сегодняшний день сталкивается с трудностями в обеспечении независимости и эффективности законодательной власти, что поднимает вопросы о его будущем в условиях усиления президентской вертикали (Шульженко, 2023).
П.А. Пронин отмечает, что российский парламентаризм становится всё более декоративным, так как роль парламента сводится к утверждению решений исполнительной власти. Это отражает тенденцию к централизации власти, которая подрывает демократические механизмы, характерные для классического парламентаризма (Пронин, 2022).
В этом плане Т.П. Медведева анализирует обновленное правовое положение Совета Федерации после конституционной реформы, подчеркивая его измененную роль в системе государственной власти. Она утверждает, что новый статус Совета Федерации создает правовые предпосылки для усиления контроля исполнительной власти над законодательной. Это ограничивает способность Совета Федерации выступать в роли независимого парламентарного органа, что делает его более зависимым от президентской власти (Медведева, 2020).
А.Н. Писарев подчеркивает, что после реформы 2020 г. Россия приблизилась к полупрези-дентской республике, где парламентская власть существенно ограничена. В результате изменений Конституции Государственная Дума потеряла значительную часть своих контрольных функций, что ослабило ее как законодательный орган. Эта тенденция отражает постепенное снижение роли парламента как независимого игрока в системе разделения властей в России (Писарев, 2020).
Сегодня Государственная Дума и Совет Федерации не обладают необходимым авторитетом среди граждан, что связано с отсутствием стабильного порядка формирования палат Федерального Собрания. На наш взгляд, для дальнейшего развития демократических институтов и парламентаризма в России необходима реформа системы избрания и функционирования парламента. Это может стать ключевым фактором в восстановлении доверия к парламентским институтам и усилении их независимости (Шульженко, 2023).
Устойчивая вертикаль власти задает тон и направления парламентской деятельности. В этом ключе парламент ведет свою деятельность в единстве с правительством. Они взаимодо-полняют друг друга. Этот факт, возможно, нельзя назвать демократической практикой. Тем не менее она характерна для России.
Усиление вертикали власти является исторически обоснованным процессом государственного строительства. В 1990-е гг. в условиях внедрения обновленных институтов власти наблюдались процессы, не отвечающие интересам сохранения целостности государства.
Верховенство права является одним из основных функциональных условий парламентаризма. В период децентрализованного федерализма деятельность законодательных собраний регионов Российской Федерации в той или иной степени противоречила федеральному законодательству, создавая правовые коллизии. До сих пор продолжается работа по приведению их в соответствие (Титов, 2014; Рыбакова, 2016). Усиление вертикали власти способствует созданию условий для соблюдения принципа верховенства права, что отвечает условиям внедрения парламентаризма в стране1.
В октябре 1999 г. был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»2, согласно которому деятельность законодательных органов регионов была унифицирована. Кроме того, были определены полномочия и ответственность, порядок взаимодействия региональных парламентов с федеральными органами государственной власти в соответствии с Конституцией (Булаков, 2023).
С конца 1990-х гг. в стране прослеживается резкое усиление вертикали власти с уклоном на исполнительную власть. На федеральном уровне после октябрьских событий 1993 г., когда противостояние институтов парламента и президентства вылилось в открытую фазу, сложился президентский тип демократии. Начиная с этого момента, федерализм в России стал характеризоваться минимальной самостоятельностью региональных парламентов (Мурычев, 2006).
Стоит отметить, что стандартизация организации и порядка деятельности законодательных собраний субъектов Российской Федерации установила организованные федеративные отношения в рамках единого государства. Дублирование законов или же противоречие законодательства регионов с федеральным центром создавали правовые коллизии, при которых слаженное совершенствование юридических механизмов, а тем более выражение интересов общества, становилось затруднительным. Роль регионального парламента стала заключаться в дополнении федеративного законодательного органа (Гельман, 1998; Волгин, 2012), делая его важным политическим институтом в развитии российского федерализма (Григорьев, Захаров, 2023). Эффективность функционирования органов публичной власти прежде всего зависит от соответствующей конституционно-правовой основы их организации и деятельности (Демидов, 2023).
Таким образом, стоит предположить, что парламентаризм в Российской Федерации в условиях обновленной государственности в исторической перспективе находится на этапе своего становления. По мере развития государственного строительства можно будет наблюдать развитие тех или иных признаков парламентаризма в России.
А.В. Бурцев считает, что высший законодательный орган Российской Федерации не статичная, а постоянно эволюционирующая система, постоянно подвергающаяся новациям и изменениям (Бурцев, 2023).
Современный российский парламентаризм сталкивается с проблемами, вызываемыми реалиями глобализации социума и национальным многообразием народонаселения страны. В этой связи А.А. Жучаевым делается вывод о том, что он постоянно нуждается в новом осмыслении, отвечающем актуальным социокультурным, экономическим и политическим реалиям (Жучаев, 2024).
В этом ключе крайне интересными являются определения парламентаризма, связанные с его характеристикой как исторического процесса: «под парламентаризмом понимают исторический процесс оформления народного представительства в парламентское учреждение, становление парламента как ведущего органа в системе государственной власти»3; как идей, взглядов, теоретической концепции: «парламентаризм можно рассматривать как идейно-теоретическую концепцию, служащую научным обоснованием необходимости парламента как института и его общественных функций»; «парламентаризм представляет собой совокупность идей, взглядов, учений о роли и месте парламента в системе государственной власти, о непреложной ценности представительного правления для любого демократического государства, о приоритетности полномочий парламента в сфере принятия законов» (Авакьян, 1999).
С. Титов отмечает, что категоричное определение понятия парламентаризма является идеализированным и, скорее, идеологическим. Те или иные его признаки актуальны при учете исторических, культурных, этнических, цивилизационных и географических условий. Российский парламентаризм следует рассматривать в исторической перспективе. Сама концепция его должна задавать критерии для оценивания степени внедрения парламентаризма в стране (Титов, 2014).
Для дальнейшего развития рассматриваемого института в России мы рекомендуем следующие конкретные меры:
-
1. Усиление независимости законодательной власти. Для повышения авторитета и эффективности парламента необходимо обеспечить его независимость от исполнительной власти, что
- предполагает более сбалансированное распределение полномочий между ветвями власти. Это позволит парламенту полноценно осуществлять контрольные и законодательные функции, не подверженные чрезмерному влиянию исполнительной ветви.
-
2. Улучшение избирательной системы. Реформа выборного процесса, направленная на повышение его прозрачности и доверия граждан, может способствовать усилению легитимности парламента. Это включает как совершенствование процедур избрания, так и обеспечение равного доступа кандидатов к выборам.
-
3. Повышение профессионализма парламентариев. Учитывая возрастающую сложность законотворческой деятельности, необходимо внедрение программ профессионального обучения для депутатов, что позволит повысить их компетентность и укрепить доверие населения к их деятельности.
-
4. Развитие культуры правового сознания. Важно формировать общественное понимание значения парламентаризма и его роли в государственном устройстве. Это может быть достигнуто через образовательные программы и продвижение правовых знаний среди граждан.
-
5. Обеспечение гласности в деятельности парламента. Создание условий для более активного взаимодействия его с обществом, в частности, через публичные слушания и доступ к информации о парламентской деятельности, может повысить транспарентность и поддержать общественное доверие к институту.
Эти рекомендации направлены на укрепление института парламентаризма в России и его адаптацию к современным реалиям, что позволит развивать демократические основы государственного управления.
Список литературы Взаимодействие России и Китая в Центральной Азии на фоне меняющегося международного порядка: западный взгляд
- Allison R. Regionalism, Regional Structures and Security Management in Central Asia // International Affairs. 2004. Vol. 80, iss. 3. P. 463-483. https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2004.00393.x.
- Anwar Z. Development of Infrastructural Linkages between Pakistan and Central Asia // South Asia Journal of South Asian Studies. 2011. Vol. 26. P. 103-115.
- Blank S. Whither the New Great Game in Central Asia? // Journal of Eurasian Studies. 2012. Vol. 3, iss. 2. P. 147-160. https://doi.org/10.1016Zj.euras.2012.03.005.
- Bull H. The Anarchical Society: a Study of Order in World Politics. N. Y., 1977. 356 p.
- Buranelli F.C. Central Asian Regionalism or Central Asian Order? Some Reflections // Central Asian Affairs. 2021. Vol. 8, iss. 1. P. 1-26. https://doi.org/10.30965/22142290-bja10015.
- Buzan B., Waever O. Regions and Powers: the Structure of International Security. Cambridge, 2003. 566 p. https://doi.org/10.1017/cbo9780511491252.
- Contessi N.P. Central Asia in Asia: Charting Growing Trans-Regional Linkages // Journal of Eurasian Studies. 2016. Vol. 7, iss. 1. P. 3-13. https://doi.org/10.1016/j.euras.2015.11.001.
- Freeman C.P. New Strategies for an Old Rivalry? China - Russia Relations in Central Asia after the Energy Boom // The Pacific Review. 2018. Vol. 31, iss. 5. P. 635-654. https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1398775.
- Gabuev A. Crouching Bear, Hidden Dragon: "One Belt one Road" and Chinese-Russian Jostling for Power in Central Asia // Journal of Contemporary East Asia Studies. 2016. Vol. 5, iss. 2. P. 61-78. https://doi.org/10.1080/24761028.2016.11869097.
- Hoh A. China's Belt and Road Initiative in Central Asia and the Middle East // Digest of Middle East Studies. 2019. Vol. 5, iss. 2. P. 241-276. https://doi.org/10.1111/dome.12191.
- Johnston A.I. China in a World of Orders: Rethinking Compliance and Challenge in Beijing's International Relations // International Security. 2019. Vol. 44, iss. 2. P. 9-60. https://doi.org/10.1162/isec_a_00360.
- Kazantsev A., Medvedeva S., Safranchuk I. Between Russia and China: Central Asia in Greater Eurasia // Journal of Eurasian Studies. 2021. Vol. 12, iss. 1. P. 57-71. https://doi.org/10.1177/1879366521998242.
- Kim Y., Indeo F. The New Great Game in Central Asia Post: the US "New Silk Road" Strategy and Sino-Russian Rivalry // Communist and Post-Communist Studies. 2013. Vol. 46, iss. 2. P. 275-286. https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2013.03.005.
- Krapohl S., Vasileva-Dienes A. The Region that Isn't: China, Russia and the Failure of Regional Integration in Central Asia // Asia Europe Journal. 2020. Vol. 18, iss. 3. P. 347-366. https://doi.org/10.1007/s10308-019-00548-0.
- Laruelle M. Russia and Central Asia // The New Central Asia: The Regional Impact of International Actors. Sydney, 2010. P. 149-175. https://doi.org/10.1142/9789814287579_0007.
- Martynenko S.E., Parkhitko N.P. Russian-Chinese Cooperation in Central Asia in the Context of "Belt and Road Initiative": Historical Retrospective and Economic Prospects // RUDN Journal of Russian History. 2019. Vol. 18, iss. 4. P. 845-864. https://doi.org/10.22363/2312-8674-2019-18-4-845-864.
- Matveeva A. Russia's Changing Security Role in Central Asia // European Security. 2013. Vol. 22, iss. 4. P. 478-499. https://doi.org/10.1080/09662839.2013.775121.
- Qoraboyev I., Moldashev K. The Belt and Road Initiative and Comprehensive Regionalism in Central Asia // Rethinking the Silk Road. Singapore, 2018. P. 115-130. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5915-5_7.
- Sergi B.S., Popkova E.G., Vovchenko N., Ponomareva M. Central Asia and China: Financial Development through Cooperation with Russia // International Symposia in Economic Theory and Econometrics. Leeds, 2019. P. 141-164. https://doi.org/10.1108/s1571-038620190000026008.
- Skalamera M. Russia's Lasting Influence in Central Asia // Survival. 2017. Vol. 59, iss. 6. P. 123-142. https://doi.org/10.1080/00396338.2017.1399731.
- Общество: политика, экономика, право. 2024. № 11. С. 94-101 Society: Politics, Economics, Law. 2024. No. 11. P. 94-101
- Vakulchuk R., Overland I. China's Belt and Road Initiative through the Lens of Central Asia // Regional Connection under the Belt and Road Initiative. The Prospects for Economic and Financial Cooperation. L., 2019. P. 115-133. https://doi.org/10.4324/9780429467172-5.
- Vakulchuk R., Overland I., Aminjonov F., Abylkasymova A., Eshchanov B., Moldokanov D. BRI in Central Asia: Overview of Chinese Projects // Central Asia Regional Data Review. 2019. Vol. 20. P. 1-5. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13032.52488/1.
- Wilhelmsen J., Flikke G. Chinese - Russian Convergence and Central Asia // Geopolitics. 2011. Vol. 16, iss. 4. P. 865-901. https://doi.org/10.1080/14650045.2010.505119.
- Wilson J.L. The Eurasian Economic Union and China's Silk Road: Implications for the Russian - Chinese Relationship // The Eurasian Project in Global Perspective. L., 2018. P. 113-132. https://doi.org/10.4324/9781315233109-9.
- Xuetong Y. Chinese Values vs. Liberalism: What Ideology will Shape the International Normative Order? // Globalizing IR Theory. L., 2020. P. 102-123. https://doi.org/10.4324/9780429356292-6.
- Zaheer M.A., Ikram M., Rashid S., Majeed G. The China - Russia Strategic Relationship: Efforts to Limit the United States' Influence in Central Asia // Stosunki Mi^dzynarodowe-International Relations. 2023. Vol. 3, iss. 3. P. 3. https://doi.org/10.12688/sto-miedintrelat.17631.1.