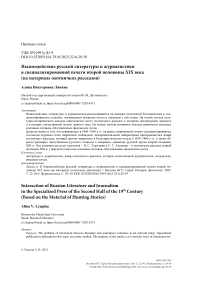Взаимодействие русской литературы и журналистики в специализированной печати второй половины XIX века (на материале охотничьих рассказов)
Автор: Ляпина А.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История журналистики
Статья в выпуске: 6 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Взаимодействие литературы и журналистики рассматривается на примере охотничьей беллетристики в специализированных изданиях, посвященных вопросам охоты и смежным с ней темам. На основе метода культурно-исторического анализа определяется место охотничьего рассказа в историко-литературном процессе и в истории отечественной печати данного типа. На основе метода мотивного анализа выявляется комплекс ключевых мотивов, обусловленных феноменом охоты.Делается вывод о том, что появившиеся в 1840-1850-е гг. на рынке повременной печати специализированные охотничьи журналы стали творческой площадкой, экспериментальной лабораторией зарождающегося жанра охотничьего рассказа, который прочно закрепился в беллетристическом отделе в 1870-1890-е гг. и таким образом расширил представление русского читателя о жанровом диапазоне русской прозы второй половины XIX в. Под влиянием русских классиков - И. С. Тургенева и С. Т. Аксакова - в охотничьем рассказе второй половины XIX в. утвердился комплекс ключевых мотивов, обусловленных феноменом охоты.
Литература и журналистика, жанр охотничьего рассказа, история отечественной журналистики, специализированная печать
Короткий адрес: https://sciup.org/147241581
IDR: 147241581 | УДК: 070 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-6-29-39
Текст научной статьи Взаимодействие русской литературы и журналистики в специализированной печати второй половины XIX века (на материале охотничьих рассказов)
Тема «литература и журналистика» давно и плодотворно исследуется историками литературы и печати в разных ракурсах и аспектах: как разновидность литературного труда, как путь писателя в литературу, как история критических оценок и формирования литературной репутации писателя, как история взаимодействия писателя с печатными изданиями и пр. (см. [Машковцева, 2012; Орлова, 2016; РЛЖ, 2021] и др.).
Одной из важнейших традиций русской журналистики была ее тесная связь с литературным процессом: изучение истории и теории отдельных жанров (см. [Жилякова, 2017; Тер-тычный, 2017] и др.); выявление роли печати в становлении национальной, региональной литературы (см. [Таказов, 1998; Вахрушев, 2013; Жилякова, 2015] и др.); история формирования литературных школ и направлений (см. [Литературный процесс…, 1981; 1982; РЛЖ, 1984] и др.). Научный интерес представляет теория и история жанра охотничьего рассказа, становление которого в России неразрывно связано с историей возникновения и развития нового типа специализированной печати природоведческой, охотничьей тематики.
Сам жанр охотничьего рассказа представляет малоизученное явление в отечественном литературоведении. Серьезной научной работой стала кандидатская диссертация М. М. Одесской [1993], в которой проанализированы произведения второстепенных писателей, издавших книги рассказов (Н. Г. Бунин, Д. А. Вилинский, Н. А. Антиохов-Вербицкий, Н. Н. Воронцов-Вельяминов, Е. Н. Опочинин), с позиции жанра. Однако огромный пласт журнального наследия остался на периферии научной рефлексии автора, о чем сообщается в научном труде: «Специфика, генезис и эволюция этих явлений еще ждут своего дальнейшего истолкования» [Там же, с. 64].
Таким образом, актуальность исследования является двунаправленной. С одной стороны, оно продолжает традицию изучения способов и форм взаимодействия литературы и журналистики, с другой стороны, вводит в научный оборот новый эмпирический материал, расширяющий предметное поле историко-журналистских и историко-литературоведческих штудий.
На основе метода культурно-исторического анализа предполагается определить особенности охотничьих рассказов в России второй половины XIX в. и их роль в истории отечественной специализированной печати, освещавшей тему природы и охоты.
Метод мотивного анализа позволит выявить комплекс ключевых мотивов, обусловленных феноменом охоты.
Изучение истории журналистики в контексте общей культуры, на стыке ее взаимодействия с литературой, дает возможность рассмотреть как процесс творческого освоения литературных традиций, так и характер становления определенного типа печати.
Результаты исследованияПериодическая печать и охотничья литература в 1840–1850-е годы
В середине XIX в. в России была создана благоприятная обстановка для появления охотничьего рассказа как жанровой разновидности в русской прозе. 1840–1850-е гг. в России – это время социальных преобразований, поиска концепции национального единства на фоне устойчивого интереса к Западу, естественнонаучных открытий, развития фольклористики и этнографии, стремительного движения русской литературы к реализму. Если охота раньше соотносилась с образом жизни русских царей и крупных землевладельцев, то сейчас охота привлекла внимание представителей науки, искусства, городских обывателей и промышленников. Охота способствовала сближению человека с природой, знакомству с повседневной жизнью русского крестьянства, «изучению сознания простолюдина» [Вдовин, 2016].
Авторы начинали осознавать культурную ценность охоты и видеть в ней один из способов разнообразия литературных сюжетов. В журналах «Москвитянин», «Современник», «Библиотека для чтения», «Русский инвалид», «Иллюстрация», «Лесной журнал», «Журнал коннозаводства и охоты» и др. помимо статей о правилах и способах охоты, о деятельности различных спортивных и охотничьих учреждений, о нравах и образе жизни дичи начала печататься переводная охотничья литература, очерки и рассказы этнографического содержания с участием героев-охотников.
Первые отечественные публикации были тесно связаны с фольклористикой и этнографией, основывались на фактическом материале. Однако в практические статьи и руководства стали включаться пейзажные зарисовки, портретные детали. Произведения освещали ту сферу деятельности людей, которая оставалась за пределами «высокой» дворянской литературы. Авторы знакомили читателя с традициями многочисленных народов Российской империи, их бытом, занятиями, о чем свидетельствуют названия очерков: «Об охоте в западных губерниях России» («Лесной журнал, 1846); «Заметки из деревенской и провинциальной жизни» («Журнал коннозаводства и охоты», 1851); «Изображение сельских нравов», «Сохатый» («Москвитянин», 1853); «Дичь в Саратовской губернии» («Москвитянин», 1844); «Старина. Зимняя и летняя потехи на зверя» («Журнал коннозаводства и охоты», 1842); «О простонародных поверьях охотников» («Журнал коннозаводства и охоты», 1845); «Дичь в Саратовской губернии» («Журнал Министерства государственного имущества», 1844), «Смелый охотник» («Журнал коннозаводства и охоты», 1843) и др. Героями очерков стали жители разных уголков империи. Как правило, это местные крестьяне, охотники, рыбаки. Участники «охотничьих экспедиций», а это были люди образованные, вели наблюдения, фиксировали свои впечатления, придавали им некоторую художественную окраску, вводя в повествование пейзажные зарисовки, философские замечания, и публиковали.
Большов вклад в развитие охотничьей беллетристики внес «Журнал коннозаводства и охоты» (1842–1862) во главе с редактором-издателем Наполеоном Матвеевичем Реуттом, знатоком охотничьих традиций, специалистом по русской борзой. Наполеон Матвеевич подготовил и опубликовал оригинальную работу на русском языке «Псовая охота» (1846). Книга увидела свет незадолго до публикации первых произведений И. С. Тургенева из цикла «Записки охотника» и отразила состояние умов русского дворянства, которое предпочитало заниматься не политикой, а наукой, коллекционированием, литературой, охотой. Именно в это время в литературу пришли писатели-охотники: И. С. Тургенев, С. Т. Аксаков, Н. А. Некрасов, А. А. Фет, Л. Н. Толстой, Н. Н. Толстой и др.
В течение 1846 г. в «Журнале коннозаводства и охоты» публиковал свои очерки Александр Михайлович Венцеславский, которые объединил в книгу и издал ее в 1847 г. под названием «Псовая охота вообще». Венцеславский в предисловии к книге объяснил специфику охотничьей литературы, которая, по его мнению, заключается в создании живописных картин, не отделенных от воспоминаний и различных случаев на охоте, восхитивших охотников.
В журнале печатались очерки иностранных авторов – французских, немецких, английских («Охота англичан в Бенгале», 1844; «Охота на диких уток в болотах Фландрии», 1844; «Зна- менитые охотники XVIII века», 1851; «Восемь дней в замке Треваре, в Черных Горах Бретани», 1844).
В «Лесном журнале» в 1845 г. опубликовал очерки Луи Виардо «Охота в России», в которых писатель, искусствовед, переводчик поделился охотничьими наблюдениями, соотнес виды и способы охоты с особенностями национальной психологии.
Российскому читателю были интересны и доступны переводы английских авторов. В 1842 г. английский журнал «The St. Petersburg English Review of Literature, the Arts and Sci-ences», издававшийся в Петербурге, опубликовал обзорную статью «British Field Sports», в которой представил имена авторов охотничьих рассказов – Д. Колкхуна, П. Эгана, Ч. Эп-перли и др. – и анонсировал их произведения. В рассказах иностранных писателей охота организует основное сюжетное действие, становится литературным фактом, описывается с характерными для нее ритуалами и обычаями.
Вместе с нарастающей популярностью охотничьих рассказов повышалось и требование к их художественной составляющей. Так, «Лесной журнал» высказал пожелание авторам излагать «картинно» и убедительно. Такая книга об охоте «и научит, и завлечет» 1.
Таким образом, в 1840–1850-е гг. специализированные («Лесной журнал», «Журнал коннозаводства и охоты»), литературные, общественно-политические издания («Москвитянин», «Русский инвалид», «Иллюстрация» и др.) стали творческой площадкой, экспериментальной лабораторией зарождающегося жанра охотничьего рассказа, который набирал популярность в условиях социальных преобразований, развития этнографии и фольклористики, интереса к естественнонаучному знанию и к европейской тематической литературе. В произведениях уже проявлялись общие черты формирующегося жанра. К ним можно отнести форму непринужденного, доверительного разговора с читателем, наличие социальной проблематики и этнографических элементов, пейзажных зарисовок, портретных характеристик участников охоты, очевидцев.
Охотничья беллетристика во второй половине XIX века и развитие охотничьей печати
Перемены, происходившие во всех областях национальной жизни в пореформенное время, привели к пересмотру земельных отношений, к утверждению первых Законов об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, развитию естественнонаучного знания, к увеличению торговли огнестрельным оружием и ускорили развитие охотничьих изданий. Если в 1850– 1860-е гг. существовало два журнала охотничьей тематики – «Журнал коннозаводства и охоты» (1842–1864), «Журнал охоты» (1858–1860, 1862) и «Газета лесоводства и охоты» (1855– 1859), то в 1870-е гг. их насчитывалось около пяти: «Журнал Московского общества охоты» (1870), «Журнал охоты» (1874–1877), «Охотничьи записки», приложение к «Журналу для Всех» (1876), сборник «Природа» (1872–1877), «Журнал охоты и коннозаводства» (1869– 1874). К началу XX в. их насчитывалось около тридцати.
Ведущие журналы, издававшиеся в Москве («Русский охотник», 1890–1895; «Природа и охота», 1878–1912; «Журнал охоты», 1890–1893; «Охотник», 1887–1889; «Охотничий вестник», 1901–1918; «Семья охотников», 1908–1914), в Санкт- Петербурге («Русская охота», 1910–1911; «Охота», 1891–1893; «Наша охота», 1907–1917), в провинции («Псовая и ружейная охота», 1894–1907; «Приволжский вестник охоты», 1891–1892), ориентировались не только на образованного, но и на массового читателя, не искушенного в охотничьем промысле. Ему необходимо было разъяснять суть правильной охоты, убеждать в важности бережного отношения к природным богатствам. Одной из задач журналов являлась «широкая популяризация научных знаний и выводов, применимых к охотничьему хозяйству» 2. Ведь «России нужны граждане, которые бы умели ценить и хранить природные богатства, иметь надлежащее представление о неисчерпаемых сокровищах своего отечества», – констатировал журнал «Охотничий вестник» 3.
Однако благородные идеи руководителей не находили должного отклика в умах и сердцах любителей охоты. Подписчиков было мало, даже у авторитетных изданий. Например, журнал «Природа и охота» в 1890-е гг. насчитывал около 600 подписчиков.
Читатели жаловались на отсутствие в журналах ярких писательских имен, захватывающих охотничьих сюжетов, дельных статей по охотоведению, собаководству. Критикуя отечественную прессу и ее читателей, корреспонденты отмечали успехи производителей печатной продукции в европейских странах с развитой охотничьей культурой и хвалили ее потребителей: «в заграничной печати публикуются лучшие беллетристы», «заграничные журналы разнообразны по тематике». Владельцы отечественных изданий, а это охотники-интеллектуалы, представители русского дворянства, знатоки охотничьих традиций (Г. Г. Мин, Л. П. Сабанеев, В. П. Урусов, С. В. Озеров, Д. П. Вальцов), в свою очередь, упрекали русских охотников в нежелании просвещаться:
Германия может похвастаться культурнейшими запросами своих немвродов. Тираж немецких охотничьих журналов достигает до 200 тысяч подписчиков, а у нас охотничья пресса прозябает. В Германии каждый грамотный охотник считает своим долгом выписывать охотничий журнал, у нас же масса интеллигентных немвродов находят излишним получать какое-либо охотничье издание 4.
За границей охотничьи издания имеют десятки тысяч подписчиков и процветают, дают издателям барыши, а у нас одна-две тысячи подписчиков дают издателю убытки и неприятности. Покойный Сабанеев потерял на издании «Природы и охоты» бо́льшую часть своего состояния 5.
Редакторы старались разными способами привлечь читателей. Для достижения результата руководители многих изданий назначали минимальную подписную цену и приглашали к сотрудничеству известных в охотничьей среде писателей, специалистов в сфере охоты, обещали премии и скидки, расширяли отделы.
Одним из таких эффективных способов, как считали руководители изданий и их сотрудники, являлось развитие беллетристического отдела, что влекло за собой и повышение требований к содержанию охотничьего рассказа. Тем более что читатели, воспитанные на Тургеневе и Аксакове, хотели не только знакомиться с материалами рекомендательного, прикладного характера (руководства по разведению собак, правила дрессировки, места охоты и т. п.), но и читать хорошую литературу «с пользой и наслаждением». Ведь «только писатель-охотник может создать живые картины природы, которые совсем не похожи на мертвенно бледные описания, какими пестрят современные произведения» 6.
К. И. Муромцев, сотрудник журнала «Псовая и ружейная охота», полагал, что охотничьи рассказы должны соответствовать требованиям общих законов литературы: должны быть написаны хорошим литературным языком, следовать принципу достоверности в описываемых событиях, характерах и обстоятельствах, в меньшей степени откликаться на общественно-политические вопросы времени, предоставив это «своей старшей сестре – общей беллетристике».
Разумеется, и охотничья беллетристика может обсуждать всякие серьезные вопросы, но они должны иметь отношение к охотничьей жизни. Подписчиками на охотничьи издания являются люди самых разных направлений. Но эти люди объединены одною страстью – охотничьей – и в охотничьем журнале ищут лишь того, что отвечает этой страсти 7.
Авторами охотничьих рассказов тоже были представители различных культурных пластов российского населения. Многие из них – выходцы из дворянских родов, эрудиты и интеллектуалы, хорошо знакомые с охотничьей культурой: Н. А. Основский (писатель и книгоизда- тель), И. И. Мельников (старший ревизор Омской контрольной палаты), Н. Г. Бунин (помощник надзирателя), А. М. Ломовский (математик, педагог), Н. А. Антиохов-Вербицкий (педагог), П. А. Киреевский (отставной военный) и др. Писатели-любители ориентировалась на классические образцы: эксплуатировали уже известные названия книг и сборников («Из рассказов охотника», «Рассказы охотника», «Рассказы Московского охотника», «Записки сибирского Немврода»), рассказов и очерков («Охотничьи записки», «Рассказы охотника», «Из записок Туркестанского охотника»), копировали темы, мотивы, сюжеты. Одни авторы поддерживали традицию «художественного рассказа» тургеневского типа, другие следовали задачам «природно-этнографического очерка» с практическими рекомендациями в духе С. Т. Аксакова.
Демократизация литературы и развитие жанра охотничьего рассказа. Устойчивый комплекс мотивов, обусловленный спецификой охоты
Развитию охотничьей словесности в 1870–1890-е гг. способствовало усиление демократической направленности русской прозы. Как известно, во второй половине XIX в. литература обогащается новыми темами, сюжетами, разрабатывается новая концепция литературного героя, который связан с основами русской жизни. Так появляются герои-моряки (морские рассказы К. М. Станюковича), золотоискатели, горнорудные рабочие (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка), военные (раннее творчество А. И. Куприна), гимназисты и студенты (произведения Н. Г. Гарина-Михайловского), герои-марксисты, народники, каторжники (произведения М. Горького, В. Г. Короленко), мастеровой народ (рассказы и очерки Г. И. Успенского) и др. Расширяется и жанровая палитра произведений (случай, очерк с натуры, сцена-монолог, картина с натуры, эскиз, картинки, быль, этюд), что вполне соответствует характеру литературного процесса конца XIX в. Именно в это время литература обогащается новыми жанрами и жанровыми формами (драматический этюд, сцены из захолустья, драматический очерк и др.). На пике популярности оказывается календарная словесность – жанр святочного (рождественского) рассказа и жанр пасхального рассказа. Следовательно, утверждение охотничьего рассказа как разновидности русской прозы конца XIX в. вполне согласуется с общими историко-литературными процессами. К концу XIX в. сложился устойчивый мотивный комплекс произведений, обусловленный спецификой охоты.
Рассказы часто начинаются с приготовления к отъезду, с описания сборов. Мотив пути организует действие. В экспозиции повествователь знакомит с местом и временем действия, включая этнографические описания и пейзажные зарисовки:
Широкая степь стелется без конца и края; по большой пыльной дороге тянутся тяжелые чумацкие возы, запряженные волами, медленно и важно идут круторогие волы; медленно и важно идут рядом с ними их длинноусые хозяева в высоких бараньих шапках. Вон село раскинулось; белые хаты с соломенными крышами потонули в зелени вишневых садов; неподвижно стоят высокие тополи, цветет мак на огородах 8.
Такая свободная форма изложения придавала рассказам интимно-биографический колорит, вызывала доверие у читателей к представленному материалу.
Мотив встречи на охоте является завязкой сюжета и стимулирует развитие действия. Благодаря охотничьим странствиям рассказчик знакомится с разными людьми и узнает истории их жизни.
Характерным для жанра охотничьего рассказа было расположение событий в прошлом по отношению к моменту повествования. Мотив случая и воспоминания двигает сюжет: либо сам рассказчик делится воспоминаниями, либо герои актуализируют события из своего прошлого. Обычно рассказчики использовали речевые формулы типа как бывало, если вспомнить давнопрошедшее время, хорошо было раньше, это воспоминания счастливой молодо- сти и т. п. Так, с аналогичного обращения начинается рассказ А. Тюльпанова «На тяге» с подзаголовком «из старых писем»:
Дорогая, помните ли Вы тот вечер на тяге? Это было много лет тому назад, в начале мая, в лесу, покрытом свежей листвой, озаренном прощальными лучами заходящего солнца… 9
Взаимоотношения охотника с природой реализованы посредством ряда мотивов, где важным для понимания идеи многих рассказов является мотив доверительного отношения к природе . По мнению охотников-эстетов, охотников-интеллектуалов, настоящая охота не имеет ничего общего с промыслом, и не сводится к добыче. Истинный охотник «любит природу, он идет в поле с целью полезного для здоровья упражнения, с целью умственного отдыха» 10, ведь «природа и охотник – два существа, тесно связанные и совместно живущие» 11.
Погружение в мир природы рождало самые светлые чувства, эстетизировало процесс охоты:
С наступлением весны и тепла, как только начнет пригревать солнышко, покажутся оголенные места в полях, зашумят мелкие ручейки, – все желания, все помыслы охотника уносятся в лес; ему постоянно мерещится чуфыканье тетеревей и тому подобные звуки, столь известные каждому охотнику; душа его замирает от нетерпения. Как же объяснить себе это стремление в лес? Что такое влечет, что манит охотиться за город? Да, охота великая вещь! Разве передашь словами, что чувствует охотник, когда, например, в теплый, светлый весенний день едет он в лодке: перед ним проносятся стаи чирков, тянутся вереницы гусей…. Как замирает сердце охотника… 12
В охотничьей деятельности человек неизбежно сталкивается с явлением смерти. Мотив смерти провоцирует медитативно-элегические раздумья писателей о смысле жизни, о тайнах взаимодействия человека и природы.
С мотивом смерти коррелирует мотив страха перед природой . Охотник, оказавшись в глубине вековых лесов, осознает величие природы и свою беззащитность перед ее законами и таинственными силами, пытается найти то общее, что связывает человека с ней:
Лес красовался золотом и пурпуром, я начал предаваться высшим соображениям и решать метафизические вопросы, отчего природа перед смертью в некотором роде наряжается в лучшие одежды и не отсюда ли проистекает обыкновение хоронить усопших – хоронить в мундирах 13.
В конце XIX в., когда истребление дичи становилось бесконтрольным, охота приобретала статус этического события, а в рассказах появились актуальные для этого периода мотивы «наказания за убийство на охоте, за жажду добычи («Впервые на гусином перелете», Природа и охота, 1891, № 4), осуждения охоты как убийства (Гумилин «Тихон Платоныч», Природа и охота, 1891, № 3), раскаяния за убийство на охоте (И. О. Д-ский «Первый медведь», Природа и охота, 1892, № 2; И. Скрынченко «Вальдшнеп-изгнанник», Охотничий вестник, 1907, № 19). Героями таких очерков и рассказов стали охотники-промысловики и браконьеры, которые в погоне за добычей подчас не соблюдали правил поведения на охоте [Ляпина, 2019, с. 55].
Одной из особенностей охоты является равенство всех ее участников вне зависимости от социального статуса, что отметил еще С. Т. Аксаков: «Все разнородные охотники должны понимать друг друга: ибо охота, сближая их с природою, должна сближать между собою» 14. Мотив охотничьего братства предполагает единый эмоциональный настрой, слаженность действий, помощь, поддержку и общую организованность охотников в их взаимодействии с могучей силой природы. О святом чувстве «равенства и братства на охоте» размышлял
С. В. Озеров. По его убеждению, охота «сближает и богатого и бедного, и знатного и неизвестного» 15. Справедливость и целесообразность подобной модели поведения на охоте подчеркнул Эфелес в очерке «Воспоминания и размышления охотника». Он поделился с читателем полученными на охоте наблюдениями над явлениями природы, жизнью животных и людей и отметил, что «на охоте все участники во всем равны. <…> У них одна и та же общая цель и те же средства к ее достижению» 16.
Герои-охотники помогают друг другу, протягивают руку помощи в трудных ситуациях. Так, в рассказе Н. И. Яблонского «Невольные отшельники» («Охотничий вестник», 1904, № 6–12) юные охотники, Иван и Алексей, заблудившись в тайге, подбадривая друг друга, смогли добраться до промысловой избушки; в рассказе Ф. Белокопытова «Необычайная охота» (Охотничий вестник, 1914, № 5) герои, действуя организованно, смогли добыть кабана.
Кроме того, охотничьей культуре была присуща особая знаковая система. Между охотником и лесом существовал некий знаковый договор, который регулировал поведение охотника на основании ценностей и сакральных охотничьих знаний, необходимых для достижения цели. Описание примет, ритуалов, которые обеспечивали охотнику удачу, реализуется в мотиве охотничьих суеверий . Русский человек, особенно из крестьянской среды, сохранял связь с народными охотничьими традициями и обычаями.
Например, новгородские охотники опасались встречи в Кунинском мху с лешим, на Вя-житском озере – с водяным, «который выныривает и опрокидывает лодки с охотниками». В Сырковском болоте – с чертями, «которые закручивают охотника так, что ему не выбраться. Охотники-промышленники верят в различные заговоры, в особенности по части боя ружья» 17.
Сохраняют актуальность социальные мотивы, связанные с проблемой социального неравенства (сюжет «любовь к неровне» с трагическим финалом имеет место в охотничьих рассказах конца XIX в.) и проблемой тяжелой жизни в деревне (рассказы «Оксинья», Охотничий вестник, 1903, № 2; «Проблеск», Охотничий вестник, 1915, № 5; «Кулик», Охотничий вестник, 1901, № 2; «Очерки охотничьей жизни», Природа и охота, 1878, № 1 и др.). В одном из очерков представлен наиболее типичный портрет пореформенной деревни:
В овраге, у самой дороги приютилась деревушка; погнившие, почерневшие крыши, покосившиеся и вросшие в землю стены, окна разбитые и заткнутые тряпками, – все говорило, что здесь живет бедность непокрытая да голь перекатная 18.
В беллетристике конца XIX в. обостряются оппозиции «настоящая – искусственная жизнь», «деревня – город», «свой – чужой». Скучной, монотонной городской атмосфере противопоставляется естественный природный мир:
В охоте чарующая сила и прелесть. Совсем оживляешься, чувствуешь себя легко и весело, забываешь все дрязги и скорби, стряхиваешь с себя всю житейскую тину и словно обновляешься среди природы и ее бессловесных обитателей 19.
Охота скрашивала его (Евграфа Петровича. – примеч. авт.) несколько бесцветную, суровую, трудовую жизнь. В одной охоте он находил забвение от всякого рода дрязг, невзгод, которыми судьба щедро отравляла его существование 20.
Несмотря на появление к концу XIX в. антиохотничьих произведений [Одесская, 1993], наше исследование журнальной беллетристики показало, что литературная традиция поддерживалась в охотничьей литературе этого периода. Мысль Тургенева-охотника о том, что человек и природа находятся в тесном взаимодействии, оказалась жизнеспособной в эпоху исторических перемен. Авторы охотничьих рассказов в непростое для России время утвер- ждали необходимость сохранения диалогической модели взаимоотношения человека с миром живой природы, что соответствовало потребностям времени и концепции изданий с их целевой установкой на сохранение и защиту природного мира.
Несмотря на подражательный характер, охотничьи рассказы оставили заметный след в истории литературы и расширили представления читателя о русском мире: описали опыт взаимодействия человека с миром живой природы, изобразили народные типы и характеры, познакомили с региональными особенностями национального пространства и охоты.
Тематически связанные с общественными и нравственно-философскими вопросами времени, с литературной традицией, рассказы имели успех у читателей и тем самым способствовали популяризации самих изданий. «Достоинство издания определяется содержанием статей <…>, отвечающим культурным требованиям современного интеллигента» 21, – заключает К. И. Муромцев.
Заключение
Таким образом, появившиеся в 1840–1850-е гг. на рынке повременной печати специализированные журналы, освещавшие вопросы охоты и смежные с ней темы, стали творческой площадкой, экспериментальной лабораторией зарождающегося жанра охотничьего рассказа, который набирал популярность в условиях социальных преобразований, развития этнографии и фольклористики, интереса к естественнонаучному знанию, к охотничьим произведениям зарубежных авторов.
Социальные реформы 1860-х гг., изменившие жизнь всех слоев русского общества, способствовали развитию демократической литературы и демократической печати. Охотничий рассказ 1870–1890-х гг., тематически связанный с общественными, нравственно-философскими проблемами национальной жизни, прочно утвердился в беллетристическом отделе и расширил представления о жанровом диапазоне русской прозы второй половины XIX в.
Под влиянием русских классиков – И. С. Тургенева и С. Т. Аксакова – в охотничьем рассказе второй половины XIX в. утвердился комплекс ключевых мотивов, обусловленных феноменом охоты, среди которых можно выделить мотив пути , встречи , воспоминаний , мотив доверительного отношения к природе , мотив страха перед природой , мотив смерти , мотив осуждения убийства на охоте , мотив наказания за убийство на охоте , мотив охотничьих суеверий , мотив охотничьего братства , комплекс социальных мотивов ( любовь к неровне , бедность русской деревни , тяжелый труд крестьян и др.).
Охотничьи рассказы в большинстве своих образцов удовлетворяли вкусам читателей и соответствовали программным требованиям изданий с их установкой на сохранение природных богатств.
Можно заключить, что взаимодействие литературы и журналистики в специализированных изданиях о природе и охоте было продуктивным, плодотворным и взаимовыгодным: развитие специализированных изданий и расширение в них беллетристического отдела способствовало обогащению русской литературы новым жанром, а улучшающееся качество охотничьей литературы – увеличению спроса на издания.
Список литературы Взаимодействие русской литературы и журналистики в специализированной печати второй половины XIX века (на материале охотничьих рассказов)
- Вахрушев А. А. Просветительская миссия печати и литературы в провинциальной России (на материале Вятской губернии XVII - начала XX века): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2013. 52 с.
- Вдовин А. «Неведомый мир»: русская и европейская эстетика и проблема репрезентации крестьян в литературе середины XIX века // НЛО. 2016. № 5 (141). С. 287-315.
- Жилякова Н. В. Рецепция русской классики в Томской дореволюционной журналистике. М.: ФЛИНТА: Наука, 2015. 208 с.
- Жилякова Н. В. Святочный рассказ в Томской дореволюционной периодике: становление жанровой традиции // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 6: Журналистика. С.7-13.
- Литературный процесс и русская журналистика конца XIX - начала XX в. 1890-1904: [В 2 кн.] / Отв. ред. Б. А. Бялик. М.: Наука, 1981. [Кн. 1]: Социал-демократические и общедемократические издания. 388 с.; 1982. [Кн. 2]: Буржуазно-либеральные и модернистские издания. 370 с.
- Ляпина А. В. Опыт взаимодействия человека и природы в специализированной прессе конца XIX века (на материале журналов «Природа и охота» и «Русский охотник») // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 6: Журналистика. С. 49-61. DOI 10.25205/1818-7919-2019-18-6-49-61
- Машковцева Л. Ф. Историко-культурные истоки и проблемы изучения понятия «литературная репутация» // Дискуссия. 2012. № 2 (20). С. 173-174.
- Одесская М. М. Русский охотничий рассказ XIX века (типология, традиции): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1993. 165 с.
- Орлова Е. И. История журналистики и литературы как университетские науки // Вестник Санкт-Петерб. ун-та. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2016. № 4. С. 162-169. DOI 10.21638/11701/spbu09.2016.412
- РЛЖ, 2021 - Русская литература и журналистика в предреволюционную эпоху: формы взаимодействия и методология анализа / Отв. ред. А. А. Холиков. М.: ИМЛИ РАН, 2021. 768 с.
- РЛЖ, 1984 - Русская литература и журналистика. 1905-1917 гг. Буржуазно-модернистские издания / Отв. ред. Б. А. Бялик. М.: Наука, 1984. 365 с.
- Таказов В. Д. Журналистика и литературный процесс в Осетии (вторая половина XIX -начало XX в.): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 1998. 40 с.
- Тертычный А. А. Жанры периодической печати: Учеб. пособие для вузов. М.: Аспект-Пресс, 2017. 320 с.