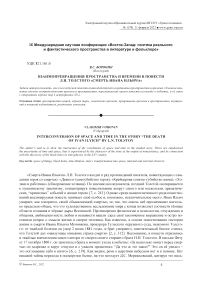Взаимопревращения пространства и времени в повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»
Автор: Воронин Владимир Сергеевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (78), 2022 года.
Бесплатный доступ
Задача автора показать, как в исследуемой повести взаимодействуют координаты пространства и времени. Основное внимание уделено неопределённости времени и пространства, переживаемой героем повести на выходе в небытие, и её связи с открытием чёрных дыр в астрофизике ХХ в.
Пространство вещей, чёрные дыры, замедление времени, превращение времени в пространство, внутренний и внешний наблюдатель, раздвоение личности
Короткий адрес: https://sciup.org/148324014
IDR: 148324014 | УДК: 821.161.0
Текст научной статьи Взаимопревращения пространства и времени в повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»
«Смерть Ивана Ильича» Л.Н. Толстого входит в ряд произведений писателя, повествующих о свидании героя со смертью: «Дьявол» (самоубийство героя), «Крейцерова соната» (убийство жены), «Хозяин и работник» (обморожение хозяина). По мнению исследователя, поздний Толстой «возвращается к пушкинскому лаконизму, концентрируя повествование вокруг одного или нескольких драматических, “кризисных” событий в жизни героя» [7, с. 243]. Однако среди вышеотмеченного ряда повествований анализируемая повесть занимает своё особое и, возможно, исключительное место. Иван Ильич умирает, как говорится, своей обыкновенной смертью, но так, что сквозь неё просвечивает настолько предельно общее, что это художественное исследование мира с конца позволяет соотнести тёмные области сознания и чёрные дыры Вселенной. Противоречия физиологии и психологии, отчуждения и общения, амбивалентность любви и ненависти нашли здесь своё законченное выражение и остро поставили вопрос о смысле жизни и смерти человека. Как известно, в основе повествования «история жизни и смерти Ивана Ильича Мечникова, прокурора Тульского окружного суда, знакомого Толстого: от тяжёлой болезни он умер 2 июня 1881 года», и брат умершего, замечательный биолог считал, что Толстой дал «наилучшее описание страха смерти» [2, с. 312]. Несомненно, в повести отразились и тяжёлые впечатления самого автора от смерти своего старшего брата Н.Н. Толстого. В письме Фету от 17 октября 1860 г. он запечатлел брата в момент ухода в небытие: «За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: “Да что ж это такое?” Это он её увидел – это поглощение себя в ничто» [6, с. 219]. Как видим, речи о царствии небесном нет и в помине. Нет никакой тайны перехода в посмертное бытие, на что негодует Д.С. Мережковский, цитируя это пись мо. Однако есть ощущение бездны, возникающее у молодого Толстого, перед падением в которую не за что ухватиться. И в наше время параллелизм между судьбой индивида и всего человечества, озабоченного вещевым пространством, действительно дышит ужасом. Есть и другая тайна, оказывается, за несколько минут до смерти мозг человека активно работает, пытаясь понять и осознать происходящее. Сознание умирающего, даже уходя, заставляет тело пробуждаться и двигаться, превратить остаток времени в пространство, мы видим это и в главном герое «Отца Сергия», и в самом уходе Л. Толстого на исходе жизни. Уход из дома как бы на уровне пространства продолжает афоризм Эпикура: пока мы есть, смерти нет, как только она есть, нас нет. Уходом мы добавляем, что нас и дома нет. Парадокс же главного героя повести заключается в том, что он и жил-то пока перемещался в географическом пространстве и по крутой лестнице чинов и должностей. Как только он стал тщательно отделывать своё вещевое уютное гнёздышко, свой дом покоя, почувствовал полное удовлетворение, в этот момент болезнь и смерть обрушились на него. Однако и полностью обездвиженным, он продолжает думать: «Противиться нельзя, - говорил он себе. - Но хоть бы понять, зачем это?» [5, с. 110]. Неопределённость, загадка ухода героя из жизни остаётся таковой и после его смерти.
Вот Пётр Иванович читает извещение о смерти героя в губернских «Ведомостях». Только что коллеги спорили, кто прав в запутанном деле. К согласию они не пришли. Возникает и неопределённость, касающаяся причины смерти Ивана Ильича, которую «не могли определить» или «определяли различно» [5, с. 58]. Более того в действие сейчас же вступает то, что кажется его товарищам. Один их собеседников признаётся: «Когда я видел его последний раз, мне казалось, что он поправится» [Там же], хотя до этого прозвучал и другой вердикт Петра Ивановича: «Я так и думал, что ему не подняться» [Там же], и вообще «говорили, что болезнь его неизлечима» [Там же, с. 57]. Суд юристов и суд врачей не дают ни истины, ни лжи, их суждения погружены в поле неопределённости. Человек ушёл, а спорить о причине можно бесконечно. Параллель между делами судебными и медицинскими будет продолжена в истории болезни Ивана Ильича, когда он в отношении врача к нему, увидит себя самого, решающего какой-то юридический вопрос. Так и врач просто решает интересную задачу постановки диагноза, а главное для пациента, насколько это опасно для жизни, остаётся неясным. И врач, и окружающие относились к больному как к некоторому бесконечному объекту познания, который всегда наличествует. Особенно характерна в этом отношении схлёстка противоположных эмоций его жены Прасковьи Федоровны: «Она стала желать, чтобы он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалованья» [Там же, с. 82]. Желала, но желать не могла! Умирающий заражает своим кружением над бездной эмоции супруги, одно чувство тормозит другое, в логику вторгается абсурд. Иван Ильич умер, но оказывает посмертное воздействие на бытовое пространство окружающих его людей. Оно, с одной стороны, его определённое место на кладбище, с другой стороны, отзывается в мыслях сослуживцев, думающих о своём карьерном росте, а обязанный мертвецу, поданный несколько живее прочих, Пётр Иванович даже думает о переводе родственника жены из Калуги в свою губернию. Таким образом, смерть Ивана Ильича вызывает служебную и горизонтальную мобильность его знакомых и даже незнакомых ему людей.
Человеческая жизнь напрямую связана с ускорением течения времени. Чисто арифметически один год для пятилетнего ребёнка – пятая часть жизни, а для пятидесятилетнего это же время в 10 раз меньшее по его субъективному восприятию. Возможно поэтому, как и у многих, у Ивана Ильича самые светлые воспоминания о детстве. Начав с момента смерти главного героя, с отсутствия его реального возраста, Толстой в знаменатель этой дроби ставит 0, обращая любой числитель времени в субъективную бесконечность исчезнувшего человека, имеющую мнимый характер, но так как писатель настаивает на обыкновенности, на повторяемости этого для других, на том, что именно происходит всё «как всегда», мнимость обретает свои реальные координаты в истории жизни, «самой простой и обыкновенной и самой ужасной» [Там же, с. 65].
Толстой довольно бегло, но последовательно описывает восходящую линию карьеры Ивана Ильича. Выпущенный чиновником 10 класса (коллежский секретарь), он по протекции отца получает ме- сто чиновника особых поручений при провинциальном губернаторе. Ведёт дела раскольников. Возможно, эта многоликость оттенков веры обусловило его скептическое отношение к сверхъестественным понятиям. Позднее, уже болея смертельной болезнью, слушая одну даму об «исцелении иконами» и решая верить или не верить ей, он подумал: «Неужели я так умственно ослабел» [5, с. 86]. Особых молитв к Богу о спасении и о здравии он не обращает и в свои последние дни.
Получив в другом городе место судебного следователя, он женится на лучшей, как ему казалось, девушке. Однако через год она стала обыкновенной ворчливой женщиной, и от её попрёков пришлось отгораживаться службой. Супруги потеряли двоих детей, но на карьерном росте это нисколько не сказалось. Иван Ильич становится товарищем прокурора, спустя семь лет пребывания в городе жены получает должность прокурора в другой губернии, где умер ещё один ребёнок, а по прошествии новых семи лет оказался несправедливо обойденным в повышении Иван Ильич. Но остановка в движении по служебной лестнице немыслима для героя, движущегося по одной координате. И само повествование начинает замедляться. Из ряда промелькнувших лет выделяется бессонная ночь кружения по террасе, которую он проводит в деревне шурина, отдыхая от службы. Это как бы первое его ночное кружение у чёрной дыры времени. Впервые он чувствует, «что так жить нельзя», обнаруживая пока только множество других министерств и ведомств, до изменения самой жизни дело не дошло. Он уезжает в Петербург, «несмотря на все отговоры жены и шурина» [Там же, с. 75]. И надо сказать, что предчувствия близких людей не обманули. Удача вроде бы улыбнулась Ивану Ильичу, он получает вожделенное назначение. Теперь, как ему казалось, он начнёт новую и ещё более приятную жизнь в квартире, найденной и обустроенной именно по его планам. Как будто всё ему благоприятствует. Само время как бы течёт в обратную сторону в его индивидуальном восприятии. Он торопится, спешит приготовить уютное гнёздышко для себя и своей семьи. И время отстаёт от него, и он сообщает жене: «чувствую, что с меня соскочило лет пятнадцать». Однако при этом его пространство замкнулось настолько, что даже на службе он продолжает думать о квартире и мебели. В этом-то вещевом пространстве он и потерял себя: упал с лесенки, серьёзно ушибся, хотя «чувствовал себя всё это время особенно весёлым и здоровым» [Там же, с. 77]. Что ему какая-то лесенка, если он прыгнул ввысь по лестнице карьеры! Реальное положение дел оказывается совершенно другим. Падая с лесенки, он полетел в небытие. По существу, перед нами опрокинутая вертикаль восхождения героя в вещевом и иерархическом пространстве. Не квартиру он обустраивает себе, а склеп, в котором вещи обретают свою жизнь, мешающую людям. Исследователи обращают внимание, что обстановка квартиры буквально восстаёт против служения людям в прямом своём качестве. Стол своей резьбой цепляет кружева хозяйки, а роскошный стульчик: «действует» как человек – с капризной, но сильной волей» [1, с. 242]. Процессы овеществления людей и очеловечивания вещей как бы сомкнулись. По словам А.В. Чичерина, в квартире покойника обнаруживается «буйство мёртвой автоматической жизни» [9, с. 267]. Вещи мешают элементарному выражению человеческого сочувствия. Они, конечно, более долговечны, чем человек, но так же, как заведённые куклы, кружатся люди в затверженном ритуале, попав в который Пётр Иванович, один из друзей покойного, теряется, не зная, следует ли кланяться в комнате усопшего: поэтому он «выбрал среднее: войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться» [5, с. 59]. Среднее выбирает большинство людей, средним сыном в своей семье и был Иван Ильич. Однако, отбыв в ничто, мертвец будто бы продолжает воздействовать на Петра Ивановича, в лице мертвеца он находит укор, обращённый лично к нему. Пространство вокруг бывшего друга и товарища покойного сжимается настолько, что он спешит на воздух после панихиды, но не для того, чтобы обдумать жизнь, а просто продолжить её за игрою в вист, которую так любил усопший, когда внешне был жив, а внутренне был механизмом, встроенным в юриспруденцию, в своё место прокурора. Иван Ильич успел понять весь ужас мёртвой жизни, а живые люди не поняли этого. Мёртвым же он выглядит «красивее и значительнее», чем в жизни, в лице его читается «напоминание живым» [Там же, с. 60]. Значительнее, да, но красивее? После ужасных физических страданий, непрерывного трёхдневного крика? Этим особенно возмущался Д.С. Мережковский, отказав герою в характере и живом лице, поскольку «в кон- це концов от него остаётся даже не зверь, “ревущий”, воющий, “хрюкающий” от боли, даже не тело, а только кусок истерзанного, изглоданного страданиями, полусгнившего мяса» [3, с. 96]. Тем не менее Толстой идёт на нарушение реальности во имя художественную открытия сознания, продолжающего жить и размышлять, несмотря на боль и ужас, созерцая само ничто, далеко отрываясь от страданий тела. Рассказывая о трагедии Ивана Ильича, автор лишь мимоходом сообщается о смерти троих из пятерых детей. Видимо, герой, поглощённый восхождением к новым чинам, настолько успешно отгородился от семьи, что это никак не повлияло на линию его жизни и поведения. Дети, ещё более несправедливо забранные смертью, должны были бы прийти к ему на память, хотя бы в его предсмертных размышлениях. Однако этого нет. Он, желающий в финале, чтобы его пожалели как ребёнка, не вспоминает собственных ушедших детей, ненавидит жену, пытающуюся изображать любовь и сочувствие, дочь, эгоистичную в своём любовном увлечении, докторов, скрывающих правду его безнадёжного положения, забывая о том, что безжалостная правда лишит его проблесков надежды и полностью отравит его существование. В последние дни пространство вокруг Ивана Ильича стремительно сужается и становится временем. Он предаётся воспоминаниям и ощущает жизнь как падение в чёрную дыру: «Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом всё чернее и чернее и всё быстрее и быстрее. “Обратно пропорционально квадратам расстояний до смерти”, – подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу»» [5, с. 110]. Этот же итоговой образ использует в своей работе о Толстом и Достоевском Д.С. Мережковский, характеризуя быстроту пробуждения русской культуры: «Дух захватывает от этой быстроты пробуждения, подобной быстроте летящего в бездну камня» [3, с. 349]. Толстой открывает внутреннюю неисчерпаемость человека у последней черты, более того, неисчерпаемость момента прозрения, почти совпадающего с окончанием жизни. Быстро пересказанная биография в пространстве географических перемещений и карьерного роста в неназванных городах создаёт впечатление безликости ускоренного течения времени. Во время болезни происходит обратный процесс сжатия физического пространства, сжатия самого тела Ивана Ильича, но время замедляет свой ход и после смерти даже течёт в обратную сторону, делая мертвеца красивее, пытающегося самой кончиной сообщить живым результат мысленного обзора своей прошлой жизни. В это время пространственные и временные координаты обмениваются друг с другом. Пространство вокруг Ивана Ильича сжимается до его кабинета, затем до дивана, и исчезает вовсе вместе с его исчезновением, но время всё более расширяется, в финальной точке сознание умирающего фиксирует отсутствие смерти, в то время как вне его фиксируют остановку его внутренних часов.
Астрофизик И.С. Шкловский обратил внимание на то, что процесс угасания сознания обратен процессу поглощения материального объекта чёрной дырой: «Подобно тому, как с точки зрения внешнего наблюдателя последнее событие никогда не произойдёт с точки зрения индивидуума, вернее сказать, его “я”, собственная смерть непредставима и в этом смысле тоже никогда не произойдёт [9, с. 71]. И вот «Смерть Ивана Ильича» Л.Н. Толстого, где умирающий герой парит над бездной отражает как раз это исчезновение внутреннего времени и возникновение внутреннего пространства: «Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том чёрном мешке, в который его просовывала невидимая, непреодолимая сила» [5, с. 113]. Толстой предугадывает невидимость и неодолимость индивидуального коллапса сознания, оказывающийся параллельным с тем, что проис -ходит с материальными объектами вблизи чёрных дыр. Идея небесного тела с чудовищной силой тяготения, не выпускающей даже свет и потому не видимой, впервые была высказана П. Лапласом в его знаменитом «Изложении системы мира» в 1796 г. Астрономия ХХ в. подтвердила существование таких объектов, а в 1968 г. Дж. Уилер назвал результат гравитационного коллапса чёрной дырой. Особая геометрия чёрной дыры заключается в том, что в ней «время превращается в радиальное пространственное расстояние, а это расстояние и есть время» [4, с. 94]. Толстой показывает нам это радиальное, перпендикулярное движение больного, оказывающееся временем сопротивления неумолимой силе: «Он бился, как бьётся в руках палача, приговорённый к смерти, зная, что он не может спастись;
и с каждой минутой он чувствовал, что несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он не всовывается в эту чёрную дыру, и ещё больше в том, что он не может пролезть в неё» [5, с. 114]. У толстовского героя произошло раздвоение личности. Внешний наблюдатель никогда не сможет переступить порога, пока он сам не расстанется с собой, как с живым человеком: Толстой фиксирует и расхождение в течении времени у умирающего и людьми, его окружающими. Пока он сам оставался внешним наблюдателем по отношению к своему умирающему телу, процесс умирания был долгим и мучительным, но вот осознание, что он должен умереть, чтобы освободить своих близких от страданий, освободило и его от страха смерти. Теперь он стал внутренним наблюдателем, влетел в чёрную дыру и увидел, что «вместо смерти был свет» [Там же, с. 115]. У чёрных дыр бесконечность и конечность времени превращаются друг в друга. По часам внешнего наблюдателя объект никогда не пересекает границ чёрной дыры, но внутренний наблюдатель пересекает горизонт событий за конечное и очень короткое время. Современная астрофизика тоже напоминает фантастику, зашифрованную формулами, и даёт теоретическую возможность, пройдя через так называемые чёрные дыры, выскочить в другие бесконечные вселенные. Правда, проблема обратного возвращения остаётся открытой. В повести же есть короткий момент возвращения из провала чёрной дыры, Иван Ильич успевает проститься, но само время этого возвращения, как и время смерти, для внешних наблюдателей оказывается неизвестным. В разговоре с Петром Ивановичем вдова скажет, что «он простился с нами за четверть часа до смерти» [Там же, с. 63]. Повествователь отметит, что прощание случилось «за час до его смерти», когда «Иван Ильич провалился, увидел свет» и решил, что жизнь «можно ещё поправить» [Там же, с. 114]. После этого для Ивана Ильича всё протекает «в одно мгновение», в то время как для «присутствующих его агония продолжалась ещё два часа» [Там же, с. 115]. Толстой не пожелал как-то пояснить эти логические неувязки в счёте времени в этом уходе внутреннего пространства героя во внешний мир, поскольку собственный конец совпадает для героя с концом смерти, а миг с наступающей вечностью.
Список литературы Взаимопревращения пространства и времени в повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»
- Еремин М. Подробности и смысл целого (Из наблюдений над текстом повести "Смерть Ивана Ильича") // В мире Толстого: сб. ст. М.: Сов. писатель, 1978. С. 221-247.
- Лев Толстой и его современники. Энциклопедия. М.: Парад, 2010.
- Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский; Вечные спутники. М.: Республика, 1995.
- Новиков И.Д. Куда течёт река времени? М.: Молодая гвардия, 1990.
- Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича // Собр. соч.: в 20 т. Т. 12. М.: ГИХЛ, 1964. С. 57-115. 6. Толстой Л.Н. Письма. 1845-1886 // Собр. соч.: в 20 т. Т. 17. М.: ГИХЛ, 1964.
- Фридлендер Г.М. Литература в движении времени: Историко-литературные и теоретические очерки. М.: Современник, 1983.
- Чичерин А.В. Очерки по истории русского литературного стиля: Повествоват. проза и лирика. 2-е изд., доп. М.: Худож. лит., 1985.
- Шкловский И.С. Вселенная, жизнь, разум. М: Наука, 1987.