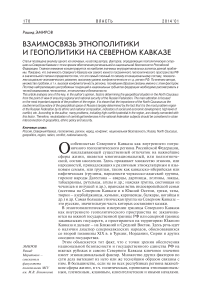Взаимосвязь этнополитики и геополитики на Северном Кавказе
Автор: Эмиров Рашид Маратович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политика в фокусе
Статья в выпуске: 1, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу одного из ключевых, на взгляд автора, факторов, определяющих геополитическую ситуацию на Северном Кавказе с точки зрения обеспечения региональной и национальной безопасности Российской Федерации. Главное внимание концентрируется на наиболее значимых внутрирегиональных аспектах данной проблемы. Показано, что значимость Северного Кавказа как самого южного пограничного геополитического пространства РФ в значительной степени определяется тем, что это самый сложный по своему этнонациональному составу, показателям социально-экономического развития, высокому уровню конфликтогенности и т.д. регион РФ. По мнению автора, множество проблем, в т.ч. высокая конфликтогенность региона, теснейшим образом связаны именно с этим фактором. Поэтому нейтрализацию центробежных тенденций в национальных субъектах федерации необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи геополитики, этнополитики и безопасности.
Россия, северный кавказ, геополитика, регион, народ, конфликт, национальная безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/170167165
IDR: 170167165
Текст научной статьи Взаимосвязь этнополитики и геополитики на Северном Кавказе
О собенностью Северного Кавказа как внутреннего пограничного геополитического региона Российской Федерации, накладывающей существенный отпечаток на важнейшие сферы жизни, является многонациональный, или полиэтниче-ский, состав населения. Здесь проживает множество этносов, или народностей, принадлежащих к различным этнокультурным и язы-ковым семьям, или группам, таким как кавказско иберийская или иафетическая (грузины, народности черкесско - адыгской группы, горские народы Дагестана — аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы, табасаранцы, рутульцы, агулы и др.; нахская группа, состоящая из чеченцев и ингушей и др.), иранская ветвь индоевропейской семьи (осетины на Северном Кавказе и в Южной Осетии, греки, таты, тюрки — азербайджанцы, кумыки, карачаевцы, балкары, ногайцы и др.) и др. Самая большая этническая группа на Северном Кавказе — это русские, значительную часть которых составляют казаки.
В этногеополитическом измерении границы Северного Кавказа как внутреннего геополитического пространства не заканчива ются на южной государственной границе РФ или северной границе закавказских государств, а простираются на территорию Южного Кавказа и дальше — на Ближний и Средний Восток. Здесь речь идет о наличии диаспор северокавказских народов, обосновавшихся со второй половины XIX в. в Турции, Иордании, Сирии и других соседних государствах.
ЭМИРОВ
Рашид
Маратович – соискатель факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова
Этим объясняется тот факт, что с точки зрения обеспечения национальной безопасности и государственного единства РФ на южных рубежах и самого Северного Кавказа ключевое значение имеет этнонациональный фактор. Множество других факторов по сути дела вытекают из него или же теснейшим образом связаны с ним. В большинстве, если не во всех республиках региона важней шие сферы жизни, в т.ч. политическая, пронизаны этнонациональ -ным, племенным, клановым, клиентелистским и иными началами.
Политические симпатии и антипатии людей в значительной степени определяются их принадлежностью к определенной этнонациональной группе, тухуму, языку, клану, местности. Здесь нет просто абстрактных, статистических избирателей, а есть избиратели-лезгины, избиратели-кумыки, избиратели-аварцы и т.д. Любые проблемы социального, экономического, образовательного или иного характера так или иначе связаны с национальным вопросом. От степени решенности и/или нерешенности национального вопроса зависят основные векторы развития региона.
Иначе говоря, здесь, как ни в одном другом регионе России, проявляется взаимосвязь между геополитикой и этнополитикой, которые переплетаются в единый узел, непосредственно влияющий на жизнеспособность, суверенитет и единство государства. Более того, сочетание геополитического и этнополитического измерений при исследовании данного геополитического пространства приобретает значимость и актуальность в тех ситуациях, когда этнонациональная проблема становится источником разного рода противоречий и конфликтов, представляющих угрозу государственному единству и социальнополитической стабильности в стране. Поэтому исследование этой темы в контексте национальной безопасности России приобретает большое значение не только для понимания и решения внутриполитических задач страны, но и для разработки внешнеполитического курса в отношениях со многими соседними государствами.
Касаясь причин возникновения конфликтов на Северном Кавказе, К.С. Гаджиев писал, что они зародились «еще в рамках осуществления так называемой ленинской внешней политики… В теории провозгласив политику самоопределения народов, на деле государственноадминистративные образования, как правило, отнюдь не строились строго по этнонациональному признаку… Сам принцип территориально-административного размежевания по сугубо национальному признаку противоречил реалиям Кавказа. Произвольно установленные в советский период границы между республиками в наши дни стали потенциальным источником разнообразных конфликтов»1.
В результате многократных и произвольных административнотерриториальных перекроек без учета этнонационального фактора многие этносы оказались разделенными между двумя или даже тремя-четырьмя республиками. Пагубность такой политики со всей очевидностью обнаружилась в условиях перестройки и развернувшихся за нею процессов распада СССР, когда на поверхность выплеснулись дремавшие до сих пор противоречия в сфере межнациональных отношений.
В комплексе факторов, способствовавших росту по всей стране настроений и установок на суверенизацию, а в ряде случаев – активности радикальных групп, требовавших отделения от России и создания независимых этнонациональных государственных образований, значи -тельную роль сыграли тенденции к политизации этнонациональных отношений и этнизма, возрождению тейповых, джама-атских, тухумных и др. ценностей и установок, формированию националистических идеологий, основанных на политизации этнической истории.
В результате начался пресловутый «парад суверенитетов», создавший серьезную угрозу территориальной целостности как самой России, так и многонациональных и двунациональных республик. В этом контексте интерес представляет пример полиэтнического Дагестана, где сформировались и громко заявили о себе движения представителей каждого сколько-нибудь крупного по местным масштабам этноса с требованиями создания собственных государственных образований вплоть до отделения от России. Ряд национальных республик приняли собственные конституции, которые декларировали свой суверенитет и в целом ряде ключевых статей противоречили Конституции РФ.
Правда, в ходе административных реформ, осуществленных в течение последнего десятилетия и направленных на восстановление властной вертикали, многие перегибы в нормативно-правовой сфере северокавказских республик были преодолены. В дополнениях, принятых в конце 1990-х–2000-х гг., эти и схожие с ними статьи были либо полностью отменены, либо существенно смягчены.
В советский период взаимоотношения титульных и нетитутльных этно- сов, их представительств в органах государственной власти регулировались центральными партийными структурами и органами государственной власти. Действовала так называемая квотная система заполнения властной вертикали национальных образований в соответ -ствии с пропорциональной численно -стью каждого этноса. Как показывает опыт ряда северокавказских республик, эта система уже в советский период не срабатывала в должной мере. Тем не менее с некоторыми изменениями она была перенята властями РФ. Однако в ряде республик эта система, унаследо вав негативные характеристики совет ского периода, еще дальше отдалилась от принципов, норм и правил политической демократии и правового государства.
Взаимосвязь этнонационального и властного начал особенно отчет ливо проявляется в полиэтнической Республике Дагестан, где борьба и рас пределение власти приобрели явно выра женный этнический характер. В респу блике, численность населения которой составляет около 3 млн чел., проживают представители более 100 националь-ностей, в т.ч. более 30 так называемых коренных народов, говорящих на самостоятельных языках, а титульными считаются 14 этнонациональных групп. Однако здесь уже в советский период примерно с конца 1930-х гг. сложилось положение, при котором первые роли в высших эшелонах власти перешли в руки одних и тех же двух трех этнона циональных групп — аварцев, даргинцев и отчасти кумыков. После распада СССР имело место дальнейшее усиление этно кратических тенденций, приведших к фактической монополизации высших постов в системе государственной вла сти представителями названных этно сов. Об этом свидетельствует тот факт, что на протяжении всего постсоветского периода именно их представители зани мают все три высших поста в республике — президента, председателя Народного собрания и председателя правительства Республики Дагестан. Более или менее доходные места на уровнях властной вертикали также распределяются среди представителей именно этих этнических групп или же тех представителей других этносов, которые для первых уже стали своими. С теми или иными нюансами такое положение характерно и для дру гих северокавказских республик1.
Кланово этническая система органи зации бизнеса и власти в сочетании с криминальной приватизацией привели к нарастанию в республиках неравенства по национальному признаку. Численность и титульность того или иного этноса гаран тируют ему большинство политического представительства в законодательных и исполнительных органах власти респу блик. Ключевые позиции заняли кор румпированные властные, банковско коммерческие структуры, которые обра зуют этнически окрашенные кланы. Они фактически монополизировали поли тические и экономические ресурсы и установили собственные неформальные механизмы принятия управленческих решений.
При таком положении вещей противо речия и конфликты между кланами в гла зах простых людей выступают как межэт нические. В этом плане серьезную угрозу экономической безопасности представ ляют группировки, формирующиеся по признакам этнической принадлежности и землячества2. Этнизация властной верти -кали проявляется, в частности, в том, что правящие кланы используют для сохране ния своих позиций правоохранительные органы, кадры которых подбираются с предельной тщательностью.
Как справедливо указывал В. Тишков, «причина неудачи разделения власти и этнической ротации в сложных по составу населения образованиях кроется не столько в самой системе консоциаль ной демократии, сколько в недостаточном гражданско правовом сознании населе ния и политиков и в определяющем вли янии криминально коррумпированных сил и связей, которые используют в своих интересах политическую мобилизацию по этническому и джамаатскому (местни-ческому) принципу»3. Это, естественно, является фактором, нарушающим прин цип пропорционального представи тельства основных этнонациональных сообществ во всех трех ветвях власти как на республиканском, так и на муниципальном уровнях. Подобное положение вещей, естественно, служит источником противоречий и конфликтов, которые приобретают опасный для общества экстремистский характер.
Этими реалиями объясняется тот факт, что каждый раз те или иные решения, принимаемые властями, в глазах определенной части населения выглядят ущемляющими их интересы и оказываются резонансными. Так, идея воссоединения разделенных народов остается одним из стимулов, который время от времени может нарушать социальную и политическую стабильность в отдельных республиках.
Естественно, особой напряженностью и остротой характеризуются межэтни -ческие отношения в так называемых биполярных республиках – Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также в многонациональном Дагестане. В двух первых республиках, наряду с Чечней и Ингушетией, ситуация осложняется тем, что балкарцы, карачаевцы, чеченцы и ингуши – репрессированные народы. В Кабардино-Балкарии, где пр ожи -вают представители множества этно -сов, основные проблемы, угрожающие единству республики и обостряющие социальную и политическую ситуацию, возникают в отношениях между кабардинцами и балкарцами, представители ко торых борются за политическое лидерство.
В этом контексте обращают на себя внимание разного рода проекты перекройки этнополитической карты Северного Кавказа путем объединения конкретных этносов, входящих, в состав разных национальных республик, в единые автономные образования в составе РФ.
К примеру, Х.И. Тугуз выдвинул идею объединения всех адыгов в Адыгскую республику, в состав которой вошли бы автономные округа: Кабардинский с центром в г. Нальчике, Адыгейский – с центром г. Майкопе, Черкесский с центром г. Черкесске; карачаевцев и балкарцев – в Карачаево-Балкарскую республику в составе автономных округов: Карачаевский с центром в г. Карачаевске и Балкарский. В дальнейшем, по мнению Х.И. Тугуза, по этой модели можно было бы провести объединение других этно- сов, таких как вайнахи, осетины, лезгины, ногайцы и др.1
О популярности среди определенной части интеллигенции и политических кругов национальных республик подобных идей свидетельствует, например, проведение представителями черкесов 23 ноября 2008 г. в г. Черкесске чрезвычайного съезда черкесского народа, в работе которого приняли участие представители Международной черкесской ассоциации, черкесских общественных объединений из Кабардино-Балкарии, Республики Адыгея, Краснодарского и Ставропольского краев. Часть радикально настроенных участников съезда обвинили руководство КЧР в проведении этнократической кадровой политики в ущерб интересам черкесского народа. Они выдвинули требование о создании самостоятельного субъекта федерации в составе абазинов, адыгейцев, кабардинцев, черкесов и шапсугов2.
5 июня 2010 г. около 700 представителей черкесов, абазинов, русских и др. некарачаевских этносов Карачаево-Черкесии собрались на съезд, ко торый принял резолюцию с требованием раздела республики и восстановления черкесской автономии в составе РФ, существовавшей со второй половины 1920-х до 1957 г. Такое требование обосновывалось доводами о том, что в Карачаево-Черкесской Республике сформировалась карачаевская этнократия, сосредоточившая в своих руках всю полноту власти. По мнению участников съезда, даже в тех случаях, когда самая важная должность сохранена за черкесом или русским, реальная власть на-ходится в руках его заместителей-карачаевцев3.
Пока что нерешенным остается спор между Республикой Северная Осетия – Алания и Ингушетией о Пригородном районе. В Моздокском районе сохраняется межэтническая напряженность между чеченцами, ингушами, кумыками, турками-месхетинцами, с одной стороны, и русскими и осетинами – с другой. Прослеживается также тенденция к нарас- танию противоречий между коренными осетинами – иронцами и дигорцами и осетинами – переселенцами из Южной Осетии и внутренних районов Грузии – кударцами1.
Нерешенной остается также проблема ногайского народа. В результате целого ряда перекроек административных границ он оказался разделенным м ежду Ставропольским краем, Чеченской Республикой и Республикой Дагестан. Этим во многом объясняется тот факт, что ногайцы начиная с конца 80-х гг. требуют восстановления их единства в рамках некоего этнотерриториального автономного образования. Осенью 2012 г. в райцентре Терекли-Мектеб в Ногайском районе на севере Республики Дагестан прошел так называемый альтернативный съезд ногайцев, на котором снова было озвучено требование о создании автономии Ногайстан (Ногай-Эл) в составе РФ.
С точки зрения региональной и национальной безопасности РФ нерешенной остается также проблема некоторых народов Северного Кавказа, например осетин, лезгин, аварцев, рутульцев и др., оказавшихся после распада СССР разделенными государственными гра- ницами между РФ, Азербайджаном и Грузией. В результате любое обострение ситуации на Южном Кавказе самым непосредственным образом отражается на положении дел в России. Более того, она автоматически вовлекается в любые конфликты, например между Грузией и Абхазией или между Южной Осетией и Грузией. Наиболее ощутимым и трагичным стало вовлечение России в грузиноюгоосетинский конфликт, приведший к войне в августе 2008 г. Наглядное представление о взрывоопасности в этой сфере можно получить также на примере многотысячного бунта 1 марта 2012 г. в городе Северного Азербайджана Кубе, населенном лезгинами, которые были недовольны произволом властей Баку, осуществляющих политику насильственной азербайджанизации инонациональных граждан страны2. Об этом же свидетельствует тот факт, что традиционно спокойный Южный Дагестан, населенный лезгинами и лезгиноязычными этносами, превратился в один из взрывоопасных регионов и так бурлящего Дагестана.