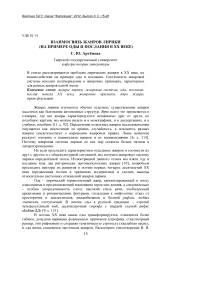Взаимосвязь жанров лирики (на примере оды и послания в ХХ веке)
Автор: Артмова Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема лирических жанров в ХХ веке, их взаимодействие на примере оды и послания. Системность жанровой системы находит подтверждение в жанровых признаках, характерных для разных жанров одной эпохи.
Жанры лирики, жанровая система, ода, послание, поэзия начала хх века, жанровые признаки, ядро жанра, трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/146120993
IDR: 146120993 | УДК: 82-14
Текст научной статьи Взаимосвязь жанров лирики (на примере оды и послания в ХХ веке)
Жанры лирики изучаются обычно отдельно, существование жанров мыслится как бытование автономных структур. Ярче всего это проявляется в словарях, где все жанры характеризуются независимо друг от друга, но подобную картину мы можем видеть и в монографиях, и в диссертациях, и в учебных пособиях [11, с. 92]. Пересечение отдельных жанров исследователями ощущается как исключение из правил, случайность, а похожесть разных жанров свидетельствует о нарушении жанровых правил. Лишь немногие рискуют говорить о взаимосвязи жанров и их взаимовлиянии [6, с. 114]. Поэтому жанровая система лирики до сих пор остается белым пятном в литературоведении.
Но если проследить характеристики отдельных жанров и соотнести их друг с другом и с общекультурной ситуацией, мы получим жанровую систему лирики определённой эпохи. Иллюстрацией данного тезиса мы взяли оду и послание (как два риторически противоположных жанра) [10], попробуем проследить векторы их развития в поэзии первых четырех десятилетий ХХ века (предвоенная поэзия в традициях модернизма) и сделать выводы относительно системных отношений жанров лирики.
Ода - лирический торжественный жанр, канонизированный в эпоху классицизма и предполагающий воспевание героя или деяния, а следовательно – особую упорядоченность слога: высокий стиль речи, изобилующий архаизмами и риторическими фигурами, отсылками к мифологии; отказ от просторечия и диалектизмов, анжамбеманов и бедной рифмы , любых эпических отступлений. В основе оды в русской традиции – строгий четырехстопный ямб, десятистрочная строфа с твердой схемой рифм: аБаБввгДДг [9, с. 151].
В поэзии ХХ века канон оды трансформируется, становится более гибким, допуская вариации формальных признаков (строфика, стихотворный размер, тип рифмовки) и сохраняя тематическую строгость (хвалебная песнь), и ода вновь становится частотным жанром. Рассмотрим стихотворение В. Я.
Брюсова «Хвала человеку» (1906): «Хвала Человеку // Молодой моряк вселенной, // Мира древний дровосек, // Неуклонный, неизменный, Будь прославлен, Человек!» [4]. Как мы видим, ни стихотворный размер (в данном случае это четырехстопный хорей), ни строфический рисунок (строфа 4-х, а не 10-строчная) не соотносятся в обязательными жанровыми правилами оды классицизма.
Стихотворение В. В. Маяковского «Ода революции» (1918) вообще написано акцентным стихом и не предполагает деления на строфы:
Тебе, освистанная, осмеянная батареями, тебе, изъязвленная злословием штыков, восторженно возношу над руганью реемой оды торжественное "О"! [8]
Но в текстах и у Брюсова, и у Маяковского есть жанровое ядро: воспевание героя или деяния (Человек у Брюсова, Революция у Маяковского, после пушкинской «Вольности» абстрактное понятие как объект прославления вполне допустимо. Стилистика оды также соответствует классическому образцу: «славься», «будь прославлен».
В тексте Э. Г. Багрицкого ситуация несколько иная. Здесь тоже нет классической строфы (хотя строфическое деление присутствует), зато присутствует ямбическая основа (которая время от времени сменяется амфибрахием и дольником) – «Ода о рыбоводе» (1928):
Настали времена, чтоб оде
Потолковать о рыбоводе .
Пруды он продвинул болотам в тыл,
Советский водяной.
Самцов он молоками палил
И самок набил икрой [2].
Стилистическая окраска стихотворения также не соотносится с традицией «высокого слога», скорее, это разговорная небрежность, которую с одой позволяет соотносить разве что тот факт, что «дело» (разведение рыбы в стране Cоветов) говорит само за себя и не нуждается в красивой «обертке». Эпическая картинка «получения приплода» за рамками одического жанра могла бы рассматриваться как травестированная, пародийная. Багрицкий убирает жанровые признаки оды, оставляя непосредственно жанровое ядро — объект, достойный воспевания в той социально-исторической среде.
Еще один автор, который также пользуется жанровыми признаками по своему усмотрению, – О. Э. Мандельштам «Ода» (1937):
Когда б я уголь взял для высшей похвалы —
Для радости рисунка непреложной,—
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно и тревожно.
Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для доблести и стали
Есть имя славное для сжатых губ чтеца —
Его мы слышали и мы его застали [7].
На первый взгляд, Мандельштам создал текст, отвечающий жанровым правилам: строфа 10-строчная, размер — ямб. Правда, ямб не 4-х, а 6-стопный (с вкраплениями 5-стопного), но по сравнению с текстами Брюсова, Маяковского и Багрицкого это стихотворение кажется более классицистическим. Однако на самом деле это не так. Дело в том, что, сохраняя формальные жанровые признаки, Мандельштам нарушает жанровое ядро. Воспевание объекта настолько искажено, что некоторые критики даже считают эту оду сатирой [5]. А если мы вспомним обстоятельства создания этого текста, то торжественность, возвышенный поэтический слог и строфические характеристики только подчёркивают отсутствие восхищения объектом. Неслучайно ода начинается с глагола в сослагательном наклонении: «Когда б я уголь взял» (здесь и далее выделено мной - С. А. ). Пишущий дистанцирует себя от объекта, обращается к себе «Художник, береги и охраняй бойца», чтец сжимает губы, а пишущий картину плачет, и надо думать, не от радости. И дело не в том, чтобы предложить новую трактовку стихотворения Мандельштама (и уж тем более не в том, чтобы выявить, что «хотел сказать автор»), а в том, чтобы, подводя итоги, на нескольких примерах показать, что расшатывается и система жанровых признаков, и само жанровое ядро оды.
По сути речь идет о том, что в начале ХХ века текст, опираясь на «жанровое ожидание» читателя, одновременно разрушает его, предоставляя всякий раз иную жанровую модель, не совпадающую с исторически сложившейся, но вытекающую из нее. Каждый признак становится самостоятельным и порождает вариации. Эти «несовпадения» затрагивают не только факультативные признаки жанра, но и его «ядро», жанровую доминанту.
Теперь обратимся к жанру послания в тот же предвоенный период. Послание и ода - жанры настолько различные (строгие формальные признаки оды - отсутствие ритмических, метрических и строфических характеристик в послании), что некоторые ученые даже противопоставляют их. Послание -лирический жанр, в котором воплощается ситуация письменного (реже -устного) диалога с условным или реальным адресатом [9, с. 177]. Правда, довольно частотным является 6-стопный ямб, но это факультативный признак и в XVIII, и в XIX веках. Поскольку «формальные» признаки в послании практически отсутствуют, его жанровые признаки касаются самой коммуникативной ситуации: называние адресата, осознание лирическим субъектом себя как пишущего, наличие контакта, «тела» письма (бумаги, чернил или иных атрибутов общения), общего кода (понятного адресату и пишущему и непонятного остальным), контекста (затекстовой ситуации, на которую указывается в послании) и содержания (сближающего пишущего и адресата).
В отношении жанровых признаков интересно стихотворение А. А. Блока «З. Гиппиус» (1918):
Женщина, безумная гордячка!
Мне понятен каждый ваш намек,
Белая весенняя горячка
Всеми гневами звенящих строк!
Страшно, сладко, неизбежно, надо
Мне — бросаться в многопенный вал,
Вам — зеленоглазою наядой
Петь, плескаться у ирландских скал [3].
Это своеобразная «надпись на книге», отзыв на творчество, разговор двух поэтов на фоне революции. Здесь и признание в духовной близости («лезвие целую», «мне понятен каждый ваш намек»), и ощущение индивидуального творческого взгляда на мир (что для одной — песня наяды, для другого неизбежно и пугающе). Невозможно провести четкую грань между стихотворным посланием и стихотворением, формально имеющим конкретного адресата, но попутно раскрывающим авторскую поэтическую и жизненную программу.
Доказательство тому – «Письмо» (1922) М. И. Цветаевой:
Так писем не ждут,
Так ждут – письма.
Тряпичный лоскут,
Вокруг тесьма
Из клея. Внутри – словцо.
И счастье. И это – всё [13].
Биографически стихотворение посвящено Б. Л. Пастернаку, но посвящения как элемента заголовочного комплекса в нем нет. «Тело» письма становится одновременно его содержанием, имя адресата не называется, классицистический жанровый канон нарушен. Если бы такие примеры были единичны, можно было бы считать их «шлейфом» жанра, стихотворением, которое поэты начала XIX века публиковали в разделе «Разное». Но таких текстов много уже в начале ХХ века, а во второй половине их станет еще больше.
Последний текст, необходимый нам для анализа, – «Летнее письмо» (1934) Н. Н. Асеева:
Только знаю:
так ты не напишешь...
Стоит мне на месяц отойти — по-другому думаешь и дышишь, о другом ты думаешь пути.
И другие дни тебе по нраву, по-другому смотришься в зрачки...
И письмо про новую забаву разорву я накрест, на клочки [1].
В этом стихотворении все не так, как в классицистическом послании: содержание письма менее важно, чем сам факт его написания, да и в финале «тело» письма подвергается уничтожению, адресат не назван (известно лишь, что это женщина, к которой адресат обращается на «ты»), общий код отрицается. Жанровое ядро послания изменяется: осуществляемый диалог с собеседником осознаётся как невозможный (что декларируется автором и, самое важное, реализуется в тексте). Сначала изменяются признаки жанра, а затем изменяется и само ядро жанра, при этом факультативные жанровые признаки становятся теми скрепами, которые позволяют говорить о жанровой идентичности.
Конечно, приведенные примеры оды и послания начала ХХ века доказывают лишь то, что эти жанры не остаются неизменными, они трансформируются, и трансформация эта не однолинейна, может затрагивать разные уровни текста. Но важно и другое: если сравнить трансформацию оды и послания, мы увидим общие черты. То есть у «ломаной линии» трансформации есть свои закономерности. Во-первых, обязательные признаки жанра становятся факультативными (и чем жестче, «формальнее» был признак, тем чаще он нарушается). Во-вторых, изменяется само жанровое ядро: ода не воспевает, а выворачивает объект воспевания наизнанку; послание не гармонизирует прошлое, а выявляет трагедию настоящего и невозможность быть понятым «идеальным собеседником». И в-третьих, в оде пишущий напрямую обращается к объекту воспевания (что было присуще посланию), а в послании пишущий утаивает имя адресата и воспевает его черты (неважно, красоту или жестокость), обращаясь к высокому слогу (что было присуще оде).
Таким образом, проследив развитие нескольких лирических жанров (в идеале как можно большее их число), можно сделать вывод об общих тенденциях трансформации жанровой системы лирики, присущих определённой эпохе.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Pronin/06.phphttp://www.gumer.info/bibl iotek_Buks/Literat/Pronin/06.php. – Дата обращения: 18.08.2013. – Загл. с экрана.
Tver State University
The Department of Theory of Literature