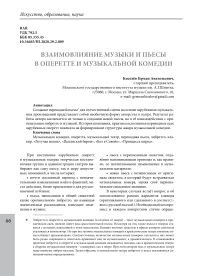Взаимовлияние музыки и пьесы в оперетте и музыкальной комедии
Автор: Киселв Герман Анатольевич
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Искусство, образование, наука
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Создание переводной пьесы1 для отечественной сцены на основе зарубежных музыкальных произведений представляет собой необычную форму авторства в театре. Результат работы автора заключается не только в создании новой пьесы, но в её взаимодействии с оригинальным либретто и музыкой. История появления, практика исполнения переводных пьес зарубежных оперетт повлияла на формирование структуры жанра музыкальной комедии.
Музыкальная комедия, оперетта, музыкальный театр, переводная пьеса, либретто, клавир, ≪летучая мышь≫, ≪цыганский барон≫, ≪бал в савойе≫, ≪принцесса цирка≫
Короткий адрес: https://sciup.org/170173972
IDR: 170173972 | УДК: 792.5 | DOI: 10.34685/HI.2020.29.2.009
Текст научной статьи Взаимовлияние музыки и пьесы в оперетте и музыкальной комедии
При постановке зарубежных оперетт в музыкальных театрах творческая постановочная группа и администрация театров выбирают как саму пьесу, так и меру допустимых изменений, в числе которых:
-
• почти дословный перевод с незначительными изменениями имён и фамилий, места действия, более приемлемого для русскоязычной публики;
-
• пьеса, написанная в общей сюжетной канве оригинального либретто, но имеющая значительные расхождения, влекущие изменение в музыке;
-
• пьеса с переписанным сюжетом, отдалённо напоминающим оригинал и, как правило, со значительными изменениями в музыкальном материале;
-
• новая пьеса с независимым от оригинала сюжетом, в который будут встраиваться музыкальные номера, меняя своё первоначальное смысловое значение.
В некоторых случаях встаёт вопрос и об использовании разных вариантов клавира (оригинального или сделанного в соответствии с русской пьесой). Необходимый компромисс в каждом конкретном случае опреде-
Либретто в оперетте и музыкальной комедии (в отличие от оперы) – текст музыкальных номеров и прозаических сцен, внешне имеет вид самостоятельной пьесы. Несмотря на это, такие пьесы в театрах ставятся с музыкой, написанной к этим спектаклям. Именно поэтому зачастую в афише автором спектакля указывается композитор. Но при постановке музыкальных комедий в драматическом театре значение музыки бывает приуменьшено. Соответственно, количество музыкальных номеров, куплетов в них может быть резко сокращено и спектакль принимает вид не музыкального, а драматического. В сложившейся практике либретто в оперетте и музыкальной комедии называются пьесами, как в драматическом театре, а сборник музыкальных номеров – клавирами, как в опере. При этом авторов пьес в музыкальном театре чаще именуют либреттистами. Таким образом, в музыкальном театре либретто и пьеса оказываются синонимичными определениями.
ляется с учетом разных факторов: географического местоположения и традиций театра, менталитета, ожиданий и привычек зрителя, условий и длительности планируемого проката спектакля, бюджета постановки. Разобраться в вопросе целесообразности взаимных уступок может помочь выявление значения пьесы и музыки в зарубежных произведениях оперетты, а также их доля и вес в музыкальной комедии как особом жанре, популярном в российских театрах.
Анализ переводных пьес в оперетте раскрывает соотношение и взаимовлияние пьесы и музыки в спектакле музыкально-драматического театра. Первоначальный успех произведения зависит от удачного или неудачного сочетания либретто и музыкального материала. А признание переводной пьесы и её успех у отечественного зрителя связан с сочетанием уже трёх факторов: оригинального либретто, музыки, перевода и/или создания текста пьесы. Задача автора переводной пьесы – найти удачную пропорцию объединения в единую новую художественную форму трёх составляющих:
-
• исправить, дописать или переписать отдельные сцены, сюжетные повороты в пьесе, адаптировать её к восприятию зрителя в России;
-
• связать результат своей работы с музыкой, написанной без учёта вносимых изменений;
-
• пытаться сразу, ориентируясь на структуру музыки, лавировать между желаемым драматургическим результатом и музыкальными рамками, ограничивающими фантазию и волю либреттиста.
Практика показала, что качественно и без потерь какой-либо составляющей совместить эти устремления не удаётся. Самый простой выход из положения – это перевод оригинального либретто с внесением незначительных поправок. Сочинение вариантов сюжета для переводной пьесы влечёт за собой изменения в музыкальной структуре. А это, в свою очередь, порождает необходимость поиска компромиссов.
Две (из семнадцати) самых популярных в России оперетт Иогана Штрауса – «Летучая мышь» (1874) и «Цыганский барон» (1885) – заметно отличаются по сюжету от этих спектаклей, идущих в Европе. В пьесе Н. Эрдмана и М. Вольпина «Летучая мышь» (1947) сохранена основная сюжетная нить, но некоторые персонажи убраны или изменены (например, Фальк в оригинальном либретто не директор театра, а нотариус; князь Орловский – меццо-сопрано, а не баритон; отсутствует Ида – сестра Адели, горничной
Айзенштайнов). Некоторые действующие лица добавлены (Прокурор Амедей, жена прокурора – Амалия, их дочь – Лота, Лесничий, он же лакей на балу у Орловского, Помощник дежурного тюрьмы), также написаны сцены, не имеющие аналогов в оригинале. Кроме того, в русском варианте пьесы не очень понятно, почему спектакль называется «Летучая мышь». Выход либреттисты нашли в том, что одели главную героиню на балу в костюм летучей мыши. Оригинальная же история заключается в том, что Айзенштайн (в русской традиции Айзенштейн) очередной раз после бала вёл домой подвыпившего Фалька в костюме летучей мыши, но оставил его спать на лавочке в парке. Утром Фальку пришлось идти по всему городу в маскарадном костюме. За что он и получил прозвище «доктор Летучая мышь». Всю интригу с появлением на балу Адели, Айзенштайна, переодеваниями Розалинды, Фальк устраивает, как месть «Летучей мыши» за прошлый бал-маскарад. «Подтверждение» данного сюжета находится в увертюре, составленной только из тем Айзенштайна и Фалька.1 С середины 1980-х годов на сценах отечественных театров совершались попытки приблизить сюжет к первоначальному или вообще поставить спектакль по оригинальному либретто.2 Заметим, что это происходило только в крупных городах. В провинциальных театрах сложилась «традиция привычного успеха» «Летучей мыши», что стало возможным благодаря находкам русской пьесы. Этот успех пьесы приходится «оплачивать» музыке. В музыкальном ряде произошли изменения. Одни номера заменились другими, появились традиции вставных номеров и неисполнения оригинальных. В результате творческого вклада Н. Эрдмана и М.Вольпина, выразившегося в создании новой пьесы с сохранением общей фабулы оригинала, «Летучая мышь» И.Штрауса в российских музы- кальных театрах превратилась в самый любимый зрителями и долгоживущий спектакль.
Если в русской версии «Летучей мыши» общая фабула соответствует оригиналу, то в сюжете пьесы В.Шкваркина «Цыганский барон» (1942) с оригинальной версией И.Шницера (1885) кроме имён, места и времени действия схожего очень мало. Это не удивительно. Первоначальный сюжет оперетты «Цыганский барон» трудно поддаётся пересказу, так как порою одна логическая нить повествования обрывается и начинается другая, не связанная с первой. Поэтому с новым витком развития оперетты в России в 1930-х годах встаёт вопрос об адаптации произведения для отечественной сцены. По заказу музыкального театра под руководством В.И. Немировича-Данченко в пьесе «Цыганский барон» (1942) В.Шкваркина с добротным текстом были структурированы линии ведущих персонажей и упорядочено общее сюжетное повествование, придуманы остроумные сцены. Сократились музыкальные номера3, особенно финалы – тенденция, характерная для музыкальной комедии, проявившаяся в сокращении роли музыкального финала. В таком варианте «Цыганский барон» известен в России. Киноверсия оперетты 1988 года сделана по версии пьесы В.Шкваркина. Также как и «Летучая мышь», «Цыганский барон» часто становится долгожителем театральных афиш.4
Единственная постановка после 1930-х годов оригинальной версии «Цыганского барона», осуществленная в Свердловском театре музыкальной комедии, ограничилась показом считанных премьерных спектаклей и была снята из репертуара. В Краснодарском музыкальном театре учли печальный современный опыт постановки первоисточника, и для спектакля 2003 года заказали новую пьесу опытному либреттисту Юрию Димитрину с таким учетом, чтобы сохранялись музыкальные номера.5 Получившая- ся пьеса представляет собой компромисс между полюбившейся публикой атмосферой пьесы Е.Шкваркина, задачами по изменению оригинального сюжета и максимальному сохранению музыкального материала, включая местоположение номеров. Оставив общий настрой переводной пьесы В.Шкваркина, соединив некоторые сюжетные ходы пьес И.Шницера и В. Шкваркина и ужав текст, Ю. Димитрин создал наиболее приемлемый вариант либретто «Цыганского барона» с музыкой И.Штрауса в полном своём объёме. Однако за много лет этой версией воспользовался только один театр.6 В спектакле «Цыганский барон» (пьеса В. Стольникова) 2018 года театра Московская оперетта также попытались совместить привычную весёлую атмосферу пьесы В.Шкваркина с оригинальным сюжетом, осовременив действие выражениями и шутками-репризами нашего времени. Были отдельные попытки возвращения отсутствующей в общепринятом варианте «Цыганского барона» с пьесой В.Шкваркина музыки в виде мелодрам, проведения отдельных куплетов, возвращение музыки в финал первого действия. Но это можно воспринимать, скорее, как профессиональный «ре веранс» в сторону И.Штрауса. Сочинённый заново удачный сюжет в пьесе В.Шкваркина повлёк значительные изменения в музыкальном материале. Все остальные варианты пьес представляют собой компромисс, основанный на стремлении сохранить музыкальные номера, атмосферу пьесы В.Шкваркина и необходимости изменения сюжета оригинала.
Продолжая разговор о возможности трансформации сюжета и переписывания пьесы при переводе, необходимо вспомнить крайнее проявление этого явления. При адаптации новой оперетты И.Кальмана «Принцесса цирка» (1926), либреттисты В.Раппопорт и Е.Геркен перенесли действие в конец XVIII века, написали совершенно новый сюжет, что потребовало в конечном итоге создания новой музыки. «У одного из старых ленинградских артистов оперетты хранился любопытный документ — клавир «Принцессы цирка», по которому шла работа. На титульном листе выписаны варианты названия новой пьесы: «Холопка», «Принцесса-холопка», «Сиятельная холопка»; поверх немецких текстов пения вписан русский стихотворный перевод и новый текст в стиле XVIII века. Пьеса и музыка не сошлись».7 В итоге, премьера оперетты «Холопка» с музыкой композитора Н.М.Стрельникова открыла Ленинградский театр музыкальной комедии в 1929 году.8 Параллели между этими двумя спектаклями гораздо ярче прослеживаются в музыке, нежели в пьесах. Так, соответствие музыкальных номеров «Холопки» и «Принцессы цирка» по ритму текста привело к неизбежному соответствию их музыкальной основы. Практически все «дубликаты» номеров «Холопки» имеют те же тональности, что в оригинале. И только ближе к финалу оперетты «Холопка» появляются музыкальные номера, не несущие на себе тень «Принцессы цирка». Сюжетные параллели в пьесах почти отсутствуют благодаря переносу места и времени действия «Холопки», и необходимости перекроить сюжет под характерные признаки эпохи. Пример истории создания оперетты «Холопка» выявляет имеющиеся многочисленные ограничения в работе либреттистов по изменению пьес.
Создание пяти различных вариантов русскоязычных пьес оперетты П. Абрахама «Бал в Савойе» (1932) заставляют задуматься о мотивах их появления9. В двух из трёх первых пьесах «Бал в Савойе» В.Масса и М.Червинского (премьера в Иркутском театре музыкальной комедии в 1943 году, в Ленинградском театре музыкальной комедии в 1947 и 1960 году), а также Е.Шатуновского (премьера в Московском театре оперетты в 1960 году) авторы старались сохранить все сюжетные нити первоисточника – пье- сы А.Грюннвальда и Ф.Ленер-Беда. Местами тяжелый для восприятия сюжет и не доведённые до логического завершения интриги мешали успешному сценическому воплощению спектакля с яркой музыкой. В.Михайлов и Д.Толмачёв (премьера в Харьковском театре музыкальной комедии и Киевском театре оперетты в 1941 году) в своей пьесе попытались сделать сюжет более цельным, убрав несуразности в развитии линий некоторых персонажей, ввели элемент переодеваний и возникающую с этим путаницу, убрали тему измены богатого аристократа, которого сделали знаменитым писателем. Таким образом, из сюжета про «аристократическую неверность» получился спектакль-праздник про бурную жизнь творческой интеллигенции Европы. Роль бывшей любовницы главного героя Танголиты убрана, а атташе посольства Турции в Париже Мустафа Бей стал теперь издателем. Однако, не блещущая обилием острот и постоянным юмором в тексте, пьеса ставилась не часто.
Телеверсия 1978 года не пользовалась широкой популярностью, так как в ней был убран важный составляющий для кинофильма и театрального спектакля любого жанра – сюжет. Авторы киносценария концерта из музыкальных номеров оперетты «Бал в Савойе» (1978) в ходе импровизированной репетиции артистов познакомили зрителей с содержанием предстоящей постановки.
В 1990 году появляется пьеса Б. Рацера и В. Константинова на музыку оперетты П. Абрахама «Бал в Савойе» под названием «Только любовь!». Сюжет о перипетиях актрис, кинорежиссёров и антрепренёров схож с первоисточником только местом действия – г. Ницца. Во всём остальном (и во времени действия) это полностью самостоятельная новая пьеса. С великолепной музыкой П. Абрахама эта пьеса шла в ряде театров страны. Некоторый диссонанс между волшебной атмосферой музыки оперетты и характером пьесы, более подходящим для драматического театра или для спектакля в жанре музыкальной комедии, ощущали как артисты, так и постановщики. Пьеса предполагала главенство текста и действия, музыкальная же партитура сосредотачивала зрителя на развитии психологического действия, заложенного в музыке и часто диссонирующего с действенными задачами пьесы. Музыкальные традиции оперетты и характер игры и исполнения вокальных номеров, применимые при постановке музыкальной комедии, которые диктовала в этом случае пьеса, ставили постановщиков и исполнителей перед противоречивым выбором. Имея свои достоинства, пьеса и музыка плохо уживались на сцене, и по второму разу театры к данной версии спектакля никогда не возвращались.
Несколько запутанная интрига и повисающие ответвления сюжета первоисточника с лихвой были компенсированы в пьесе Ю. Димитрина (1996).10 Первые почти дословные переводы пьесы «Бал в Савойе» не требовали изменений в музыке, однако нуждались в литературно-драматической редакции.
Последующие версии пьес выявили закономерность: чем бóльшие изменения привнесены авторами в создаваемые ими русскоязычные пьесы, тем бóльшие были необходимы изменения музыкального материала.
На примере переводов и переделок сюжетов пьес оперетт мы можем выявить несколько характерных тенденций. Главная причина появления новых пьес – понимание всеми создателями спектакля необходимости качественной пьесы в оперетте. На примере создания русскоязычных версий «Летучей мыши», «Цыганского барона» и «Бала в Савойе» прослеживается подчинение музыкального материала логике новой пьесы. С другой стороны, именно превосходство выдающейся музыки является тем двигателем, который заставляет авторов продолжать создавать либретто для одного и того же спектакля. Для раскрытия возможностей музыкального языка произведения авторы применяют различные подходы: дословный перевод, редактура в русле сюжетной канвы оригинального либретто, создание своей версии либретто на основе оригинальной, создание нового либретто, не связанного с оригиналом.
Идеальной для оперетты, а в последствии и для музыкальной комедии можно назвать пьесу, сочетающую в себе различные качества, и на первом месте – интересный сюжет, комические ситуации на уровне разыгранных анекдотов. Героями пьесы становятся яркие характерные персонажи, а текст должен быть обильно сдобрен остротами, каламбурами и шутками. Большой плюс пьесе придадут прозаические сцены, подводящие в своём финале к эмоциональному пику, являющемуся органичным выходом на музыкальный номер. Можно отметить, что когда в оперетте возникает выбор приоритета музыки и хорошего текста пьесы, то, после некоторых колебаний, вынужденно жертвуют музыкой. Учитывая исторически сложившиеся в оперетте соотношения музыки и текста, в музыкальных комедиях музыкальный материал изначально имеет строгое подчинение тексту и сюжету.
Развитие жанра музыкальной комедии шло параллельно с адаптацией классических и не-овенских оперетт в стенах одних и тех же музыкальных театров. Как в создании переводных пьес от 1920-х к 1940-м годам обнаруживались устойчивые тенденции проявления мастерства либреттистов, так и в музыкальной комедии к 1950-м годам стали появляться произведения с крепкой драматургической основой. В годы расцвета этого жанра (1960-1990-е) сформировалась устойчивая форма, при которой музыкальная основа, являясь неотъемлемой частью произведения, подчинялась главенству литературного материала. (Рассмотренный вариант пьесы «Только любовь!» на материале оперетты «Бал в Савойе» – типичный пример работы либреттистов музыкальной комедии). Некогда повсеместное и широчайшее распространение музыкальной комедии заставляет обратить внимание на этот жанр, редко освещающийся в научной литературе.
Список литературы Взаимовлияние музыки и пьесы в оперетте и музыкальной комедии
- Акулов Е. А. Оперная музыка и сценическое действие / Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. С. 388.
- Владимирская А.Р. Оперетта. Звездные часы. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. С. 312.
- Димитрин Ю.Г. Цыганский барон [электронный ресурс]. Режим доступа: http://ceo.spb. ru/libretto/reality/buff/tsyganskii_baron.shtml Дата обращения: 15.03.2020.
- Он же. Бал в Савойе [электронный ресурс]. Режим доступа: http://ceo.spb.ru/libretto/ reality/buff/ball.shtml. Дата обращения: 15.03.2020.
- Калиш В. Я. Нескучный сад. Превращения музыкального спектакля в России. ХХ век. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2006. С. 95-126.
- Колесников А.Г. Оперетты Ф. Легара в контексте отечественного музыкально-театрального искусства // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2014. № 2 (140). С. 304