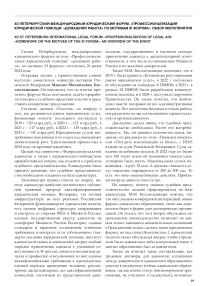XII Петербургский международный юридический форум. «Профессионализация юридической помощи: «домашняя работа» по мотивам XI форума»: обзор мероприятия
Автор: Кулагин А.В.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: События
Статья в выпуске: 3 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140305964
IDR: 140305964
Текст обзорной статьи XII Петербургский международный юридический форум. «Профессионализация юридической помощи: «домашняя работа» по мотивам XI форума»: обзор мероприятия
Согласно данным «Росстата» по вопросу о том, как развивается рынок юридических услуг, финансовая емкость последнего составляла в 2019 г. 120 млрд руб., в 2020 г. – 112 млрд руб., в 2021 г. – 117 млрд руб., в 2022 г. – 138 млрд руб., в 2023 г. - 142 млрд руб. Юридические услуги востребованы населением и из года в год показывают значительный рост. Единственный провал был в 2020 году по причине пандемии.
Целый год совместно с Федеральной палатой адвокатов, а также с юридическим сообществом прорабатывался вопрос, как подойти к проблеме судебного представительства. Единодушно было принято решение, что судебное представительство необходимо создавать на базе адвокатуры.
Замминистра привел ответы на вопрос, почему адвокатура наиболее соответствует публичной правовой природе квалифицированной юридической помощи. Во-первых, это готовая инфраструктура: во всех регионах Российской Федерации функционируют адвокатские палаты; есть единая цифровая структура; координация и контроль со стороны ФПА и Минюста России; единый государственный реестр адвокатов на платформе Минюста России. Во-вторых, единые стандарты и гарантии: установлены этические требования и контроль за их соблюдением; стандарты оказания юридической помощи; институт адвокатской тайны и адвокатский запрос; особый порядок привлечения адвоката к уголовной ответственности. В-третьих, имеются механизмы допуска в профессию и исключения из нее: единые квалификационные требования к претендентам; единый порядок проведения экзамена; рассмотрение дисциплинарных дел квалификационной комиссией, состоящей из представителей адво- катского, государственного и научного сектора; привлечение адвоката к дисциплинарной ответственности, в том числе по инициативе Минюста России и по жалобам доверителей.
Также М.М. Бесхмельницын напомнил, что в 2019 г. была принята «Концепция регулирования рынка юридических услуг», в 2022 г. состоялось ее обсуждение на площадке X ПМЮФ, в 2023 г. в рамках XI ПМЮФ были разработаны концептуальные подходы, и в 2024 г. поступило поручение Правительства. Он также отметил, что необходимо внести поправки во все административные кодексы. Это достаточно большая и емкая работа, она разделена на две составляющие: процессуальную и организационную.
Докладчик сделал вывод, что судебное представительство необходимо. Растёт его востребованность. Так, он сравнил количество исков, поданных по рекламам по типу «Повысим пенсию» или «Отсудить компенсацию за билет», с DDoS атакой на суды Российской Федерации. Суды завалены подобными исками. В 2022 году из более чем 150 тысяч исков об изменении пенсии удовлетворено было шесть. Максимальная сумма повышения - 4 руб. 35 коп. А средняя стоимость услуг «юристов» варьируется от 200 до 500 тыс. То есть это явно мошеннические действия. Проблема назрела давно и стоит остро.
По вопросу, почему именно судебное представительство должно сформироваться на базе адвокатуры, М.М. Бесхмельницын ответил, что это обусловлено комфортной интеграцией: новые формы адвокатских образований, такие как адвокатское бюро в форме уже коммерческих организаций. Он указал, что этот вопрос обсуждаем, но гражданское законодательство позволяет на данном этапе с внесением незначительных изменений в Гражданский кодекс сделать такие юридические формы, но под спецсубъектностью. С адвокатской палатой также обсуждался вопрос, чтобы учредители были адвокатами либо контрольный пакет в данных образованиях был за адвокатами.
Также он отметил такие составляющие, как трудовые договоры для адвокатов; соглашение между доверителем и адвокатским образованием; участие в госзакупках (сейчас адвокатские образования, так как имеют статус некоммерческой организации, не участвуют в госзакупках); оптимиза- ция налогообложения. «Задача глобальная. Необходимо предусмотреть комфортный переходный период, который устроит всех, не отразится на интересах граждан, чтобы был бесшовный переход, и мы не остались без квалифицированной защиты, представительства в судах», – подчеркнул он.
Регулятором выступает Минюст России. Это означает единое регулирование в сфере оказания юридических услуг. «Также мы увеличиваем регуляторную составляющую как и со стороны Минюста России, так и со стороны Федеральной палаты адвокатов. Мы предусматриваем, что Минюст России может обращаться в дисциплинарную комиссию о приостановлении судебного представительства либо лишении судебного представительства, и дисциплинарная комиссия обязана в обязательном порядке, а не как сейчас, рассмотреть наш документ», – сказал он.
М.М. Бесхмельницын отметил усиление роли ФПА России и формирование единой политики и корпоративной практики. «Соответственно, необходимо усиление роли Федеральной палаты адвокатов, потому как придётся разрабатывать новый стандарт, новые подходы, работать над новыми адвокатскими образованиями. Я считаю, что это по силам сейчас, но необходимо придать больший статус Федеральной палате адвокатов. Буквально недавно мы обращались к Председателю Правительства Михаилу Владимировичу Мишустину с просьбой дать нам поручение о разработке закона и о внесении изменений. 17 июня такое поручение нами получено. Мы до 1 октября совместно с заинтересованными органами должны представить документ в Правительство Российской Федерации», – подытожил он.
Полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации Михаил Юрьевич Барщевский отметил, что прогресс за год с момента проведения предыдущего форума очевиден. Он обратил внимание на то, что контроль, с точки зрения ФПА и региональных палат, давно надо вернуть. Контроль профессиональной деятельности у президиумов адвокатского сообщества при советской власти и контроль палаты сегодня – разные вещи. М.Ю. Барщевский также выступил против контроля деятельности адвокатуры со стороны Минюста России. Право Минюста обратиться в палату с представлением в отношении неправильных действий того или иного адвоката, имеющееся сегодня, надо оставить. Но если вводить контроль в плане властных полномочий, то это уже будет не адвокатура.
М.Ю. Барщевский прокомментировал проблемы с корпоративными юристами: «Мы с вами прекрасно понимаем, что если какой-то шиномонтажной мастерской понадобятся юристы, чтобы судиться, то они заключат трудовой договор сроком на месяц или на два. И вот вам готовый корпоративный юрист – мы это никогда не проконтролируем. Поэтому если мы говорим о корпоративных юристах, то, скорее всего, надо договариваться о том, что это предполагает стаж работы не менее стольких-то лет и организацию с численностью не менее определенного количества сотрудников. Это, конечно, будут корпоративные юристы, а не каждый, кто будет краситься под них».
Относительно большого объема исковых заявлений М.Ю. Барщевский отметил, что там практически не участвуют адвокаты. Это всё, как хорошо их назвали, «махновцы»; безумные иски и чистое мошенничество к адвокатам не имеют отношения.
Член научно-консультативного совета Федеральной палаты адвокатов РФ и Совета Адвокатской палаты Московской области Сергей Геннадьевич Пепеляев представил доклад «Адвокатская фирма: семь развилок». Он указал, что к вопросу о судебном представительстве надо подходить шире, по сути дела, это означает реформу всего рынка юридических услуг.
«Здесь не надо мельчить и сводить всё только к профессионализации представительства. Задача, как мне кажется, гораздо масштабнее. В целом я её вижу так: должны преследоваться стратегические цели развития отечественного консалтинга как инфраструктуры суверенной российской экономики... Мы уже получили хороший урок, когда иностранные фирмы в одночасье ушли с рынка, побросали российских клиентов, их защиту в международных судах, сопровождение крупных сделок. Главная задача – развитие суверенной инфраструктуры суверенной экономики. И представленная Максимом Михайловичем концепция полностью в эту задачу вписывается. Один из важных моментов, конечно, новые современные инструменты, которые позволят преодолеть некий организационный архаик; адвокатская фирма - как раз такой инструмент, требующий достаточно тонкой настройки и достаточно тонкого регулирования», – прокомментировал он.
С.Г. Пепеляев указал на семь основных вопросов, которые необходимо обсудить до 1 октября во исполнение поручения Правительства РФ.
Первый вопрос: кому может принадлежать адвокатская фирма. Он отметил, что сейчас «раз- вилка такая: либо только адвокатам 100 %, либо также и другим лицам при условии 51 % контрольного пакета у адвокатов. Однако кто эти другие лица с 49 % акций (доли)? Мне кажется, мы заинтересованы в создании крупных консалтинговых структур, где услуги – прежде всего, где отечественный бизнес может получать комплексное обслуживание. А это и услуги оценщиков, аудиторов, патентных поверенных. Обычно, когда реализуется какой-то крупный юридический проект, в нем участвуют не только юристы. Нужно подумать: мы заинтересованы в создании таких структур, где профи объединяются для совместного оказания услуг».
Второй вопрос: в какой правовой форме будет создаваться адвокатская фирма? В любой, предусмотренной гражданским законодательством? Либо в форме только ООО? Либо нужна новая, неизвестная пока нашему ГК РФ гражданско-правовая форма специально для рынка профессиональных услуг?
Третий вопрос: менеджером адвокатской фирмы может быть только адвокат или и профессиональный управленец?
Четвертый вопрос: отношения фирмы с адвокатами – это трудовой договор? С.Г. Пепеляев прокомментировал так: «Мы подробно обсуждали договор адвокатской контрактации. Трудовой договор, может быть, не самое лучшее решение. С одной стороны, юристы, которые работают в неадвокатских юрфирмах, хотят сохранять трудовые отношения, потому что это гарантия на отпуск, больничный и прочее. Они именно из-за гарантий не спешат переходить в адвокатуру и говорят, что в адвокатуре таких гарантий социальной стабильности нет. Однако надо учитывать вопросы налогообложения. У адвокатов заключение трудового договора повлечёт сразу же увеличение налогообложения в виде социальных взносов. Это огромное препятствие. Поэтому мы в Федеральной палате много лет назад подготовили достаточно обоснованное интересное решение, договор адвокатской контрактации. Есть проект».
Пятый вопрос: формы вовлечения адвокатов – акционеров-владельцев фирмы в производственную деятельность. «Адвокаты только дивиденды могут получать или они могут также получать зарплату? – уточнил докладчик. – Это очень сложный налоговый вопрос, вопрос взаимоотношения с налоговой инспекцией. Я считаю, что нужна новая гражданско-правовая форма юридического лица, предназначенная для профессионалов, для лиц, оказывающих профессиональные услуги по типу LLC. Это такая налогово прозрачная форма, когда есть юридическое лицо, оно заключает договоры с клиентом от имени лица, а не как сейчас – руководитель бюро от имени всех адвокатов по доверенностям. Бизнес привык работать с бизнесом, ему хочется понятных бизнес-решений. LLC – это форма, давно зарекомендовавшая себя в мире не только на рынке юридических услуг, но и в другом, когда налогообложение происходит только на уровне распределяемого дохода между владельцами».
Шестой вопрос: НДС на правовые услуги. В настоящее время адвокатские услуги от НДС освобождены. Введение НДС не лучшее решение, в бизнес-среде оно будет приводить только к убыткам для адвокатских фирм.
Седьмой вопрос: устойчивость и трансформация юридической фирмы – проблемы и наследования, и переходные, и налогообложения.
С.Г. Пепеляев отметил, что эти семь блоков проблем нужно тщательно продумать в короткий срок.
Сенатор, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Николай Николаевич Владимиров в выступлении отметил, что «представленная на обсуждение тема – важная и правильная для юридического форума. Много было озвучено предложений Минюста России, предложений юридического сообщества. Со своей стороны могу сказать: поскольку представляю законодательную власть Российской Федерации, особое внимание уделяется именно квалифицированному юридическому представительству. Как подтвердил представитель Минюста России, мы неоднократно собирались на площадках Совета Федерации для обсуждения этой темы. Большинство согласилось, что нужно регулировать данный рынок; и все-таки остановились на институте адвокатуры. 17 июня получено поручение правительства. Будем ждать данный законопроект, который тоже будем детально рассматривать».
Н.Н. Владимиров отметил, что такая площадка, как адвокатура, на сегодняшний день наиболее подготовлена, на ее базе можно продвигать идею представительства, есть организационная, территориальная, цифровая платформа, есть и меры дисциплинарного взыскания. Однако есть и противники данной площадки, поскольку сегодня не хватает адвокатов, чтобы представлять интересы граждан и организаций в судах. Безусловно, нужен переходный период.
Обсуждая вопросы налогообложения, Н.Н. Владимиров выразил мнение о новых орга- низационных правовых формах: «Надо слышать сообщество, а не одну сторону. Наш комитет связывал различные площадки, позиции, которые мы хотели довести до Минюста России как основного разработчика данного законопроекта. Мы пришли к мнению, что необходимо продолжать эту работу. Сегодняшняя дискуссия внесет конкретику в проект закона, который мы дальше будем рассматривать на своей площадке».
Судья Верховного Суда Российской Федерации Михаил Валентинович Кротов отметил, что «проблематика уже не первый год, даже не первое десятилетие является предметом обсуждения. Началось это с того момента, когда в процесс – и в уголовный, и в гражданский – мы привнесли понятие состязательности. С этого момента вопрос о том, кто является представителем, насколько он грамотный и правильный, стал более-менее активным». М.В. Кротов привел пример из своей практики. Как правило, гражданин в первой инстанции забывает заявить об исковой давности, и ничего сделать с этим нельзя. Так, такой гражданин посчитал, что сам справится и ему не нужен адвокат. Он был уверен, что прав, и забыл заявить или не знал, что надо заявить. «Необходимо поднимать вопрос, – сказал выступающий. – До сих пор у многих граждан представление о суде еще о советском, когда они приходили на приём к народному судье, и тот им говорил, что писать в исковом заявлении. Рецидивы подобного рода, к сожалению, попадаются на практике по заявлениям, которые поступают в порядке кассации».
М.В. Кротов также отметил: коллеги пришли к выводу, что судебное представительство должно сформироваться на базе адвокатуры. По его мнению, острая проблема заключается в том, что в процессе кроме представителей есть ещё сами участники, то есть ответчик и истец, а к ним никаких профессиональных требований предъявить нельзя. Более того, им нельзя запретить без представителя участвовать в процессе ни на каком этапе. И тут встает вопрос, а как тогда помогать им? Нельзя внести в процессуальный закон, что любое лицо, которое хочет само себя защищать, не имеет на это право. М.В. Кротов сказал следующее: «Вопрос для нас, судей. Как с ними вести профессиональный разговор? Как пытаться квалифицировать ситуацию, когда он сам не может понять, о чем говорить и как. На благо это будет? Наверное, вопросов, о которых говорил С.Г. Пепеляев, будет ещё больше. Да, у нас сегодня в законодательстве введено, что с определённого уровня судебной системы для представительства в суде надо представить дипломы о юридическом образовании. Давайте вспомним, что по сравнению с советским периодом в сегодняшнем стандарте юриспруденции нет практики. Свидетельствует ли наличие диплома, что человек подготовлен к судебной деятельности, к выступлению в суде, к представительству? Ответ очевиден. Значит, нужен допуск в профессию. Профессиональный экзамен есть почти во всех сферах: судейский, прокурорский, адвокатский, нотариальный. У госслужащего нет формально. Но при этом мы его не хотим объединить или сказать, что этот экзамен должен включать вот такую обязательную составляющую. Надо это делать или нет? У адвокатуры в этом плане более подготовленный стандарт, которому можно следовать. Еще один момент, на который я не могу не обратить внимание. Очень часто, к сожалению, наличие диплома не свидетельствует о качестве образования. Вопрос доверия к представителю и оценки качества требует определённой квалификационной оценки со стороны сообщества. Мне, например, трудно себе представить, хотя Конституционный Суд РФ и указал, что это допустимо, что адвокат, которого исключили из состава коллегии, через год восстанавливается, продолжает работать. Однако мировая практика показывает иные примеры. Человек может забыть о своём дипломе, если его исключили из состава.
Остро встает вопрос квалификационных требований к человеку, который стремится стать судебным представителем. Представим себе: а судьёй человек сможет стать, если его лишили полномочий? А прокурором? А почему адвокатам можно вернуться? Мы же говорим о том, что это нарушение стандартов».
М.В. Кротов указал: в адвокатской среде есть понимание представленных вопросов, а вот среди депутатского корпуса, к сожалению, до конца профессионализация не очень понимается. Он также привел пример: «Не так давно приняты поправки в Гражданско-процессуальный кодекс, из которых, к сожалению, были исключены требования о наличии диплома для участия в «мировой юстиции», и на первой инстанции. Верховный Суд выходил с такими предложениями. Законодатель нас не поддержал. Вопрос, наверное, в том, что общество надо убеждать, что в этом есть необходимость, и искать какие-то варианты. Каким образом оказывается содействие гражданам? Сейчас много говорится о бесплатной юридической помощи. У нас идёт некое расхождение: с одной стороны, профессионализация представительства в суде и, с другой – как гражданину по- мочь, потому что он сам не всё знает. Напомню утверждение, что есть три сферы деятельности, где каждый себя считает крупным специалистом: юриспруденция, медицина и педагогика. В данном случае, к сожалению, в попытках самостоятельно что-то решить без квалифицированной помощи все забывают, что это все-таки тоже искусство, тоже профессия, требующая серьёзной подготовки.
Подводя итог, М.В. Кротов отметил: «Идеи, что это должна быть адвокатская палата – да. Но, с другой стороны, у нас сегодня в законе требуется просто наличие диплома. Здесь, наверное, нужно найти какой-то адекватный компромисс. Сегодня эта сфера работает уже достаточно активно. Каким образом ее урегулировать?».
Помощник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Кирилл Онищенко в своем докладе отметил, что «такое поручение было давно, и, соответственно, Минюст России выходил в Правительство с тем, чтобы официально легализовать работу по совершенствованию профессионального представительства. То, что вышло поручение, означает, что назад дороги нет. В любом случае нужна будет проработка, нужно будет принять какое-то решение до 1 октября».
К. Онищенко высказал свою позицию по поводу наличия диплома, указав, что в мировых и районных судах в рамках гражданского процесса нет никаких требований. Это означает, что сейчас может случиться ситуация, что лицо, которому вчера исполнилось 18 лет, идёт в районный суд и представляет интересы граждан по сложнейшим категориям дел. Например, по спору о единственной наследственной квартире, по спору об определении места жительства ребёнка... «Естественно, эта ситуация приемлема быть не может, – подчеркнул он. – Мы сейчас в этом плане находимся в точке ноль. В результате того, что предлагается сразу ввести судебное представительство в рамках адвокатуры, мы, по сути, переходим из точки ноль в точку два. В этой связи, как минимум, нужно ещё раз вернуться к вопросу о наличии юридического образования, хотя бы о наличии диплома, для тех представителей, которые идут в мировые и районный суды. Был законопроект Верховного Суда, по нему был дан положительный официальный отзыв с замечанием о том, чтобы исключить эти позиции. Соответственно, такую же позицию в этой части занимало государственно-правовое управление: основное возражение по содержанию было в том, что снизится доступ- ность, соответственно, и риски для граждан в этой части будут повышены».
К. Онищенко отметил: «...жизнь на месте не стоит. Количество юристов, которые выпускаются, было озвучено на предыдущей сессии. 250 000 в год. Поэтому в целом, с моей точки зрения, нет никакой проблемы. Как минимум, надо ввести это требование, чтобы именно среди этих 250 000 юристов в год, которые выпустились, найти того, у кого есть диплом, чтобы он пришёл в суд и надлежащим образом представлял интересы граждан, в том числе по сложным категориям дел. Поэтому если даже мы не договоримся до 1 октября по поводу того, что это будет – адвокатура или какие-то другие формы, то, как минимум, определиться по вопросу юридического образования точно нужно».
К. Онищенко также привел пример: «Раньше в законе о прокуратуре была норма, согласно которой помощником прокурора могло быть лицо, окончившее третий курс юридического факультета. Естественно, потом эта норма была изменена, что это должен быть диплом. Это было связано с тем, что юристов стало больше».
Докладчик также указал, что представление интересов в суде – работа, которая носит комплексный характер. Мало знать какую-то конкретную отрасль права, например жилищное право, законодательство о защите прав потребителей, необходимо знать сам процесс, причём на высоком уровне, потому что не все имеющиеся навыки, не все знания, которые даются именно в вузе по гражданскому процессу, по арбитражному, достаточны для того, чтобы представлять интересы граждан и организаций. Например, доказывать отрицательный факт. Или чётко понимать, какое дело подходит для апелляции или кассации соответственно. Для этого нужно знать сущность апелляции, в законе и в учебнике по гражданскому процессу сказано, что это пересмотр дела, повторное рассмотрение дела по имеющимся в деле доказательствам. Объяснить студенту, который потом пойдёт в суд, что это хорошее дело для апелляции, а это дело для апелляции плохое, – сложно. Ему нужно иметь некую практику, чтобы эффективно защищать права и интересы граждан и организаций.
Старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Геннадьевич Тузов в своем выступлении указал: «Мне понравилась сказанная на круглом столе в Совете Федерации в начале года фраза, что мы можем упираться и не называть юридические услуги рынком. Юридическая помощь – это публичная история, публично-правовая. Это история, которая связана не только с конкретным оказанием помощи по каким-то коммерческим вопросам для развития бизнеса. Не менее важно, что любой человек имеет право и возможность обратиться к профессионалу для получения консультации по правовому вопросу в конкретной тяжёлой ситуации и получить её надлежащего качества. Вопрос о том, что квалификация и качество взаимосвязаны, неоднократно обсуждался....Сегодня в выступлении прозвучало, что адвокатура субъективна. На мой взгляд, как корпорация она объективно готова на сегодняшний день объединить под своим организационным началом осуществление этой публичной юридической функции. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что человек с определённым повышенным требованием к уровню образования зайдёт туда хотя бы по нормальной отборочной процедуре. Единственное, осталось внутри адвокатуры, возможно вместе с Минюстом России, отрегулировать вопрос единства требований при приёме экзамена во всех субъектах федерации. С другой стороны, в системе адвокатуры…существует и другой «меч»…, квалификационное производство, и это хорошая гарантия. Привлечь адвоката за принятие бесперспективного поручения и за ненадлежащую юридическую помощь можно. И я согласен с коллегой, утрата статуса по виновному деянию в отношении доверителя, которое привело к существенному нарушению его прав или невозможности их восстановления, должна быть волчьим билетом в профессии. Это ситуация, с которой стоит работать».
А.Г. Тузов также отметил вопрос о квалификационных требованиях к приходящим в адвокатуру юристам. Не все будут работать исключительно качественно, но это не означает, что нужно сворачивать с пути. Более того, за последние 20 лет Федеральная палата адвокатов сделала немало усилий в этом вопросе. Есть требования по обязательному повышению квалификации внутри профессии адвоката. Каждый на протяжении 5 лет должен набрать определённый объём часов повышения квалификации, причём неважно, платных или бесплатных. Есть все предпосылки к тому, что адвокатура способна удержать и обеспечить какой-то минимальный стандарт качества юридической помощи, которая будет оказываться прежде всего, конечно, гражданам. Потому что у бизнес-адвокатуры, бизнес-отношений своя специфика: рынок проголосует за профессионала.
Адвокат Коллегии адвокатов города Москвы «Барщевский и партнеры» Мария Михайловна Пухова отметила, что «договор дороже денег, а если договор, в том числе, и про деньги, и хорошо составлен, он поможет наши деньги оставить при себе». Ее доклад был посвящен последствиям досрочного расторжения соглашения между адвокатом и доверителем. «Вот какой нюанс, – заметила она. – Мы, адвокатское сообщество, до сих пор не определились с тем, что такое наше соглашение с гражданско-правовой точки зрения. Есть ощущение, что этот вопрос в последнее время решают все, кроме нас. Суды стабильно относят соглашение к договорам возмездного оказания услуг. Их можно понять, споров с адвокатами, к сожалению, немало, и решать их как-то и по каким-то нормам нужно. Адвокатское сообщество на помощь не торопится. В правовой доктрине по этому поводу вариантов больше. У нас соглашения определяют как самостоятельный гражданский договор, как непоименованный, как разновидность поручения, как смешанный договор с элементами поручения, агентирования и т. д. Пора уже самим адвокатам высказаться чётко по этому поводу. Например, выразить мнение на уровне разъяснений палаты, что соглашение – это самостоятельный вид договора, и ничего кроме закона об адвокатуре и общих положений ГК к нему не применяется.
Относительно непосредственно досрочного расторжения соглашения М.М. Пухова указала, что, согласно закону об адвокатуре, соглашение расторгается в соответствии с ГК РФ. Получается, по смыслу статьи 453 ГК РФ, если фактическая стоимость юридической помощи, оказанной к моменту расторжения соглашения, оказалась меньше, чем полученное вознаграждение, то разницу надо возвращать. Как определять эту разницу? На этот вопрос М.М. Пухова высказала следующее мнение: «Если у нас в соглашении почасовая работа, там чёткий ценник за каждое действие. Или, допустим, помесячная оплата – здесь всё более-менее понятно. А если фиксированная сумма за ведение всего дела или за инстанцию? Сколько стоит полгода судебных тяжб, и как определять эту разницу? Здесь начинается самое интересное. Суды у нас, за неимением лучшего, обращаются к методическим рекомендациям адвокатских палат субъектов по размерам оплаты юридической помощи. Вот прейскурант Московской областной палаты для примера: ведение гражданского дела в первой инстанции – 5000 руб. в день, то есть за одно заседание, подготовка к ведению дела – 4000 руб. в день, составление правовых докумен- тов - 1500 руб. за один документ и т. д. А теперь давайте считать: проработали правовую позицию, подготовили, подали иск, письменные объяснения, поучаствовали в пяти судебных заседаниях, и вот ваши честно отработанные 30000 руб. Остальное возвращаем доверителю. Да, такая практика есть. Мой совет по этому поводу: договариваемся на берегу. Сразу пытаемся этот вопрос закрепить. У нас в коллегии, к слову, в каждом соглашении с фиксированной оплатой есть такое положение. Если соглашение расторгается досрочно, то фактическое вознаграждение адвоката определяется по конкретной часовой ставке. Вместе с тем, если бы со стороны палаты были какие-то разъяснения по вопросу, как всё считать, которые учитывали бы вполне естественный интерес адвокатов не возвращать, может, уже потраченный гонорар, я думаю, суды бы не оставили это всё без внимания, и это упростило бы всем жизнь».
По вопросу гонорара успеха М.М. Пухова указала, что с недавнего времени в соглашениях начали прописывать его условия. Допустим, 10 % от суммы выигрыша после вступления решения в законную силу. «Теперь давайте представим ситуацию: несколько лет вели дело, и за день до последнего судебного заседания доверитель расторгает с нами соглашение, - продолжила она. - Я помогаю сейчас одному коллеге по такому вопросу, и в рамках этого дела мы направили запросы представителям самых уважаемых научных школ. Что самое интересное, получили практически одинаковые по своей сути ответы. Четыре доктора юридических наук написали, что гонорар успеха – это сделка под отлагательным условием, которое сохраняет свою силу и после расторжения соглашения. Иными словами, если условие для выплаты гонорара успеха наступило после того, как соглашение расторгли, гонорар должен быть выплачен. Эту же позицию в ответе на наш запрос выразило и Министерство юстиции. Встречается такой подход и в судебной практике: определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Правда, в нашем случае всё это судом было проигнорировано, гонорар успеха взыскали только в части. Уверена, что апелляция примет верное решение целиком и полностью в нашу пользу».
Президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Светлана Игоревна Володина особое внимание уделила вопросу о единстве требований к экзаменам. Она указала: «...у нас тестирование одинаковое для всей страны, проверяется на едином сервере ...компьютером, единый перечень вопросов и количество билетов, у нас всё одинаково. И хотя противники этой системы говорят, что адвокатура не сможет принять такого количества экзаменов, это переходный период, который коснется в массе только очень крупных городов».
С.И. Володина также прокомментировала возражение, что на экзамене не смогут определить всех достойных. «Да, возможно, это так, - заявила она. - Но мы введём апелляцию и аудиофиксацию... Если участник утверждает, что на всё ответил и не сдал, – проверили, посмотрели и сказали: «Нет, ты не ответил на это, на это и на это»....Говорят, большой взнос первого года. Сделаем его единым, это не проблема. По поводу адвокатской фирмы, конечно, проблема назрела. Фактически такие фирмы существуют под разными предлогами. Следующий контраргумент: по действующему законодательству нельзя сразу образовать самостоятельное адвокатское образование. И это вопрос решаемый. Работали по юридической специальности столько-то лет, и у вас уже есть практика, так почему не создать. Когда говорится о преимуществах судебного представительства на базе адвокатуры, первый аргумент почему-то структура. Да, у нас хорошая структура, но главное - мы работаем по единым стандартам, и для нас то, что мы работаем в интересах доверителя, но только на базе закона, – главный принцип. Наши требования и принципы незыблемы. И мы приглашаем всех, кто готов им соответствовать».
Завершая заседание сессии, Михаил Барщевский подытожил: «Вначале о базисных вещах. Адвокатура – это не юридические услуги, потому что адвокатура в силу Конституции РФ выполняет публичную функцию. Государство гарантировало квалифицированную юридическую помощь. Но не исполняет этого, потому что государство этой самой квалифицированной юридической помощи не даёт. Да, по уголовным делам даёт. Но разве в статье 46 сказано, что государство гарантирует квалифицированную юридическую помощь только по уголовным делам? Нет, там это не сказано, но никакой квалифицированной юридической помощи по гражданским административным государство не гарантирует, то есть не реализует провозглашённую гарантию 123 статьи Конституции РФ, доступ к правосудию... А как без адвокатов? Поэтому первое: адвокатура, в отличие от махновцев, выполняет публичную функцию, скажем, квазипубличную. Это надо помнить. Мы никогда не решим проблему адвокатской монополии и корпоративных юристов, она неразрешима, это квадратура круга. Если только не пойдём по объединительному пути.
Я предлагал выбрать его еще год назад, очень много за это время общался с разными оппонентами, союзниками и повторю свою позицию ещё раз. А доступ в суд через экзамен?.. Адвокаты этот экзамен сдают, чтобы стать адвокатами. Его им не надо пересдавать, если человек не хочет быть адвокатом, мы не можем его заставить. Нельзя принудительно включать в общественную организацию. Да, он хочет быть судебным представителем, но не хочешь быть адвокатом. Сдай экзамен, и Министерство юстиции внесёт тебя в Единый реестр судебных представителей. На тебя будет распространяться Кодекс этики судебного представителя, который будет под копирку переписан с Адвокатского. Вот о чём говорила Светлана Игоревна. Будешь подчиняться нашим стандартам, получишь выход в суд. Не будешь подчиняться – не получишь. Где сдавать экзамен? С моей точки зрения, в палатах. Такой экзамен безальтернативен с точки зрения допуска к правосудию. Естественно, что адвокаты получают эту лицензию, вернее, допуск, автоматом, они экзамен уже сдали. Повторюсь, все остальные, кто хочет попасть в суд, сдайте экзамен, а дальше решайте, хотите ли вступать в адвокатуру. Адвокатура находится в совершенно безопасном состоянии, адвокатов сегодня меньше, чем махновцев. Да, я за адвокатскую монополию в этой редакции, но не устану повторять, адвокатура должна отвечать за своих членов. А сегодня такой возможности нет. Я очень рад прогрессу, который возник в этом вопросе в течение года. Честно признаюсь, думал, ничего не изменится. Как правильно сказал Кирилл Онищенко, теперь обратного пути не будет. Есть поручение М.В. Мишустина, есть срок. И я очень надеюсь, что через год мы уже будем обсуждать конкретный законопроект, а не идеи».
Министр юстиции Российской Федерации Константин Анатольевич Чуйченко, подводя итоги, сказал следующее: «Мне сегодняшняя панельная дискуссия показалась скучной, в хорошем смысле этого слова. Сегодня мы наблюдали достаточно профессиональный разговор единомышленников. У нас сейчас есть все основания для того, чтобы сделать дорожную карту и двигаться по этому пути уже в соответствии с ней. Год – реальный срок для того, чтобы сформировать законопроект с высокой степенью проработки».
Обзор подготовил Анар Намигович Алиев