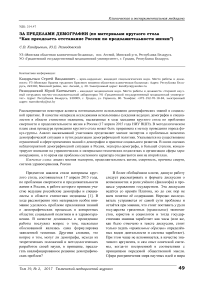За пределами демографии (по материалам круглого стола “Как преодолеть отставание России по продолжительности жизни”)
Автор: Кандрычын С.В., Разводовский Ю.Е.
Журнал: Тюменский медицинский журнал @tmjournal
Статья в выпуске: 2 т.19, 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются некоторые аспекты потенциального использования демографических знаний в социальной практике. В качестве материала исследования использованы суждения ведущих демографов и специалистов в области статистики медицины, высказанные в ходе заседания круглого стола по проблемам смертности и продолжительности жизни в России (17 апреля 2015 года НИУ ВШЭ). В методологическом плане сама процедура проведения круглого стола может быть приравнена к методу проведения опроса фокус-группы. Анализ высказываний участников представляет мнение экспертов о проблемных моментах демографической ситуации и путях реализации демографической политики. Указывается на существование ограничений в сфере применения знаний о демографии в практике социального развития. В своих оценках неблагоприятной демографической ситуации в России, эксперты-демографы, в большей степени, концентрируют внимание на управленческих и материально-технических недостатках в организации сферы здравоохранения, в то время как проблемы системного характера отодвигаются ими на второй план.
Анализ мнения экспертов, продолжительность жизни, смертность, причины смерти, система здравоохранения, Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/140220121
IDR: 140220121 | УДК: 314.47
Текст научной статьи За пределами демографии (по материалам круглого стола “Как преодолеть отставание России по продолжительности жизни”)
Предметом анализа стали материалы круглого стола, состоявшегося 17 апреля 2015 года, по проблемам смертности и продолжительности жизни в России, в работе которого приняли участие ведущие российские демографы и специалисты в области статистики медицины [1]. В ходе рассмотрения этих материалов особое внимание уделялось проблеме приложения знаний о демографических процессах в конкретных областях социальной политики и в здравоохранении. В качестве доминанты к проведению работы послужил вопрос о том, насколько обоснованной являлась сама формулировка заявленной тематики. Другими словами, это вопрос о том, могут ли демографы, исходя из теоретических положений и методологических разработок своей науки, в принципе, предлагать квалифицированное решение демографических проблем?
В более обобщённом ключе, данную работу следует рассматривать в формате дискуссии о возможностях и роли учёного (философа) в процессе управления государством. Эта дискуссия ведётся со времён Платона, но до сих пор не всем понятно её содержание. Нередко исследователь устраняется от самой сути проблемы и остаётся при мнении, что стоит поставить у руля государства грамотных ( правильных ) экономистов, юристов и социологов и тогда государственная машина заработает как часы (или же, как было отмечено в тексте дискуссии, стоит только задать «правильные образцы» определённых видов деятельности и система заработает). При этом чаще не вспоминается, в качестве значимого аргумента, и сам опыт советской системы, когда-то построенной в соответствии с принципами передовой общественной мысли. Сфера разграничения мира научных идей и мира
Клиническая и экспериментальная медицина общественных практик, несомненно, трудно улавливаема, но гораздо хуже, когда существованием этого разграничения пренебрегают сами же учёные-обществоведы.
В нашем случае учёные-демографы не предлагают каких-то революционных идей, они лишь на основании данных о неблагоприятных демографических тенденциях в обществе предлагают оценить эффективность российской системы здравоохранения и “высказывают свои соображения о путях совершенствования этой системы”. В то же время, при знакомстве с представленными материалами круглого стола, можно прийти к парадоксальному, на первый взгляд, заключению о том, что эта дискуссия вскрывает не столько проблемные места отечественного здравоохранения, сколько указывает на проблемы самой демографии и связанного с нею пласта общественных наук. Причём основным выступает вопрос о пределах демографии как науки и о сфере приложения знаний о демографических процессах в социальную практику, а вместе с тем, указывается ряд ограничений методологического и общетеоретического характера, обозначающих место современной демографии в системе знаний об обществе.
В качестве методологического инструментария настоящей работы используются представления, высказанные учёными-демографами, о возможных путях решения проблем связанных с высокой заболеваемостью и смертностью в России. При этом нами не оспаривались сами выводы о неблагоприятных демографических тенденциях в российском обществе, а внимание было сконцентрировано на оценках их интерпретации и на предлагаемом социальном ответе. Несмотря на то, что учёные высказывали разные, порой противоположные мнения, их высказывания в процедуре анализа были обобщены (лишены авторства) и представлялись как общее мнение участников круглого стола. Такое упрощение процедуры представляется методологически допустимым. При этом учитывалось отсутствие продекларированных разногласий между участниками круглого стола по ряду принципиальных позиций. В отдельных случаях приводились мнения различных участников. Сама процедура проведения круглого стола во многом сходна с проведением социологического метода фокус-группы, когда участники опроса свободно высказываются по предложенной тематике и проводиться регистрация их высказываний. Только в данном случае, роль модератора исполнял председатель круглого стола, а участниками группы были эксперты в области демографии и статистики здравоохранения. Цитируемые высказывания участников выделены курсивом. Некоторые из этих высказываний приводились в оторванности от оригинального контекста. Материал проведенного анализа изложен в форме свободного повествования. Отдельные положения проблемы обсуждались в порядке их предложения и с учётом предполагаемой теоретической значимости.
Первоначально, была сформулирована и вынесена для обсуждения проблема отставания России по показателям смертности и продолжительности жизни от других европейских стран. Обсуждению различных аспектов этой проблемы были посвящены три первых тематических раздела дискуссии. Были подытожены итоги многолетней работы статистиков и демографов, определивших масштабы проблемы сверхсмертности в России, долговременный характер её проявления и представлены некоторые способы её научной верификации. Бесспорной признаётся значимость проблемы и её истинный характер, в частности, исключается значимость влияния статистического артефакта.
Наше внимание привлекли озвученные учёными трактовки этой проблемы, то есть этап выстраивания причинно-следственных связей. Очевидно, что этот этап особенно важен, поскольку неправильная или ограниченная интерпретация самого генеза проблемы, автоматически будет означать неэффективность выбора мер противодействия.
И в этом ракурсе следует выделить две принципиальные позиции.
Первая из них предлагает обратиться к недавней истории, и попытаться объяснить причины положительных демографических тенденций, зарегистрированных в годы Перестройки (снижения показателей смертности от ряда неинфекционных и инфекционных заболеваний, насильственных причин и рост продолжительности жизни). Было высказано мнение о прямой связи этого явления с известной антиалкогольной кампанией. Это мнение озвучил один из участников круглого стола, другие не высказали возражений. В то же время, уже в ходе дискуссии, было сделано существенное дополнение, указываю- щее на неоднозначный и спорный характер данной теоретической конструкции. Приведём его полностью: “С другой стороны, мы увидели на данных Ижевска, что, с точки зрения развития атеросклероза, много пьющие имеют более низкий холестерин и лучшее состояние сосудов. Откуда же в России такая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди 40-50летних? И если эти смерти действительно от сердечно-сосудистых заболеваний, значит, есть какие-то другие, пока неизвестные, физиологические механизмы, которые нужно изучать. Чтобы это выяснить, сейчас ведется англо-российско-норвежское исследование, которое проходит в Архангельске и Новосибирске и стоит больших денег”.
Иными словами в качестве теоретической модели интерпретации исторического опыта по снижению показателей смертности (то есть тому, к чему следует в идеале стремиться) была озвучена схематическая модель значимости алкогольного фактора. И в то же время, высказаны сомнения о применимости данной модели к некоторым из основных видов смертности (например, к смертности от ИБС). Таким образом, сам этот принципиальный вопрос, причем, уже который год, остаётся без четкого ответа. К спорным оценкам результатов одного исторического эксперимента, присоединяются и другие вопросы, например, связанные с интерпретацией благоприятных демографических тенденций (снижения показателей смертности, как общего, так и по отдельным видам), наблюдаемых параллельно во многих странах европейского региона в первом десятилетии нынешнего века. Всё это служит основанием усомниться в правомочности некоторых рекомендаций по исправлению демографической ситуации на основании тех методов и данных, которыми оперирует современная демография.
Сегодня есть достаточно оснований утверждать, что поиск ответа на вопрос о факторах, определивших скачкообразное изменение демографических показателей в годы перестройки, требует выхода за границы операционного поля демографии и эпидемиологии. И дело тут не только в часто упоминаемой мультидисципли-нарности, а, скорее, в тех факторах или предикторах, которые трудно уловимы для исследователя. Никакое изящество математического аппарата не спасёт, когда перед исследователем сто- ит задача определение значимости духовных и социопсихологических составляющих в развитии общества. Представить социальную значимость христианской аскезы в виде формулы, или материализовать предикторы духовности? -Макс Вебер на это бы улыбнулся. А ведь именно такие, неуловимые характеристики духовной сферы, оказывают многоплановое и сочетанное влияние на весь набор известных демографических и социальных характеристик (соответственно, обуславливающих зависимый характер изменений в показателях смертности от таких различных причин как самоубийства, туберкулёз и ишемическая болезнь сердца). Наличие этого нерегулируемого фактора психосоциальной и духовной сферы нельзя непосредственно измерить, оно, скорее, каким-то образом угадывается. Поэтому исследователи тут говорили о социально значимой роли самого “ощущения надежды” [2] или об “импульсе надежды” [3], которые возникали в общественном сознании в период социальной и политической трансформации 80х. Вероятно, весь последующий формат круглого стола претерпел бы значимые изменения, если бы участники вспомнили (хотя бы в качестве альтернативной гипотезы) закон духовнодемографической детерминации, предложенный Гундаровым [4]. Безусловно, сам предмет дискуссии тогда бы стал более эфемерным, но это бы уберегло участников от формулировки некоторых ошибочных и заведомо упрощённых положений.
В частности, довольно ограниченной является позиция круглого стола, представляющего роль системы здравоохранения в “борьбе” с показателями заболеваемости и смертности. В этой позиции смешались роль системы здравоохранения по реализации неотложных для здоровья мероприятий с непосредственной значимостью профилактических и оздоровительных практик (которые объединены известным форматом здорового образа жизни). Причём в ходе дискуссии прозвучала идея о том, что всё, “что определяет образ жизни, зависит не от одного Минздрава, все предпосылки того или иного образа жизни всегда создает государство в широком смысле”, но эта позиция не получила дальнейшего развития, скорее наоборот, акцент был сделан на выявлении недостатков системы здравоохранения. Очевидно, что именно в реализации превентивных и оздоровительных мероприятий заключа- ется основной резерв здоровья человека и всего общества, но взвалить контроль за выполнением этих мероприятий на плечи здравоохранения (соответственно, участковой службы) было бы неразумно и не морально (хотя некоторые чиновники от медицины декларируют такие намерения).
Система здравоохранения должна обеспечить должное содействие в реализации подобного рода мероприятий на индивидуальном и коллективном уровнях, но она бессильна в обеспечении уровня должной мотивации к здоровью (в том числе и на этапах развития хронических заболеваний) – это прерогатива сферы культуры, духовности и психосоциальных установок, формируемых системой общественных институтов, при очевидной опоре на экономический статус и культурную традицию. И нереально назначить чиновника или команду специалистов, ответственных за этот процесс. Тут приведём мнение участника круглого стола: “ Понятно, что с точки зрения интересов разных ведомств - не только Минздрава - лучше, чтобы статистика фиксировала больше смертей от таких причин, за которые никто не отвечает. Но это еще одно основание сказать, что нужен вневедомственный подход, комплексное изучение всего блока внешних причин смерти, и этим кто-то должен заниматься. Минздрав, видимо, не считает весь блок в целом зоной своей ответственности, МВД - тем более, и нет никаких научных центров, которые достаточно всесторонне изучали бы эту проблему, приобретающую всё большее социальное звучание”.
Безусловно, изучать и отвечать за смертность – это два разных понятия, а в самом стремлении назначить “ответственного” за оздоровление населения просматривается приверженность авторитарной традиции. Вероятно, не случайно именно этот психосоциальный процесс является значимым в формировании пассивных установок в отношении собственного здоровья.
Наиболее показательно трудности с расстановкой приоритетов в области решения демографических проблем продемонстрировало отношение участников круглого стола к известному распределению значимости различных факторов риска в формировании здоровья и в развитии отдельных видов заболеваемости. “Недавно некий журналист почти довёл меня до сумасшествия, убеждая, что здравоохранение отве- чает за 10-15% уровня здоровья ”. Уже в ходе дискуссии эта научная позиция была представлена, как необоснованно растиражированное, начиная с 1978 года, мнение отдельных экспертов. В тоже время этот вопрос имеет принципиальное значения для принятия решений в области государственной политики, поскольку определяет основное направление приложение сил и ресурсов. И тут стоит вспомнить результаты многолетней работы коллектива под руководством академика Ю.П. Лисицына, которые также свидетельствуют о том, что первое место среди всех оцениваемых факторов риска занимает образ жизни, а недостатки системы здравоохранения значимы именно в пределах 10% [5].
Если не учитывать эти, ставшие уже хрестоматийными, положения, то интерпретация любых трендов останется крайне свободной, например как: “ даже если мы увеличим общие затраты на здравоохранение в 2-5 раз, то наше отставание от европейских стран по величине ожидаемой продолжительности жизни не сократится, а останется в пределах 10 лет. Из приведенного графика можно сделать предварительный вывод о наличии системных ошибок в руководстве российской системы охраны здоровья населения”. В данном случае остаётся спорным вопрос относительно уровня функционирования этих системных ошибок (то есть, вероятно, говорить следует не о системе здравоохранения, а о системе общегосударственного уровня).
Помимо выше перечисленных ключевых моментов, в рамках проводимого анализа заслуживают критической оценки и некоторые другие позиции участников круглого стола. “Безусловно, в 2000-е годы был очень большой рост уровня жизни в стране, но была и диффузия нововведений. Представьте, как выглядит лечение давления архаичным папаверином по сравнению с современными препаратами, которые пришли с Запада”. При словах о том, что был “очень большой рост уровня жизни”, вероятно, кольнуло сердце у многих россиян, живущих за пределами Москвы и нескольких удачливых регионов, но этот тезис пусть обсуждают другие специалисты. Наше внимание привлекла та часть высказывания, которая в совокупности с иными замечаниями по тексту дискуссии, может свидетельствовать об упрощённом понимании роли современных методов терапии в сохране- нии здоровья, в том числе, и их значимости для улучшения демографических показателей. В целом создаётся впечатление, что участники круглого стола придерживаются мнения о том, что чем выше степень технологического развития медицины, и чем доступнее она станет населению, тем лучшими будут популяционные показатели заболеваемости и смертности. Такая позиция не учитывает существование и отрицательный эффект “оборонительных” механизмов, институционально заложенных в современной медицинской практике [6, 7, 8]. Спектр этих механизмов достаточно широк, но тут можно привести пример с вышеупомянутым “архаичным папаверином”.
Если врач в прежние времена (когда не фигурировали жёсткие протокольные требования к лечению) мог пациенту c гипертензией сказать: “Вы, голубчик, пока собой не займётесь и лишний вес не сбросите ко мне лучше не приходите, я Вам тут кроме того же папаверина ничего не назначу”. То есть, пациенту молодого или среднего возраста самому предлагалось побороться с основными факторами риска в развитии заболевания, что, при успехе, замедляло или останавливало течение болезни. Тогда как современному пациенту сразу назначается соответствующий спектр лечения, который обеспечивает нормализацию самочувствия и улучшение параметров гемодинамики, без каких-то дополнительных усилий по коррекции режима. Сегодня пациент получает от врача общую информацию о необходимости коррекции питания и физической активности, но у него уже не работает один из основных механизмов внутренней мотивации, которым является боль и дисфункция. В результате, для многих молодых пациентов всё лечение сводиться к приёму препаратов. Самочувствие, на фоне регулярного приёма препарата становиться лучше, но если не устранены основные факторы риска, болезнь неминуемо прогрессирует, и уже через несколько лет возрастают риски смертельных осложнений.
Существуют и другие, более изощрённые оборонительные схемы, реализация которых связана с большими экономическими затратами, и многие из этих схем, кстати, тоже “пришли с Запада” (например, связанные с широкими скрининговыми и перестраховочными обследованиями). Поэтому открытым остаётся вопрос насколько значимым является влияние, оценива- емое на популяционном уровне, последствий чрезмерного и необоснованного увлечения современными медицинскими технологиями? Причём, помимо демографического, остроту приобретает и экономический аспект проблемы. Следует добавить, что любые попытки регулировать деятельность врача (как и медицины в целом) извне сопровождаются усилением оборонительных установок в его деятельности (например, стремление более надёжно укрыться за форматом установленных протоколов ведения пациентов).
Упоминание о существовании оборонительных механизмов в медицине в контексте проводимой дискуссии представляется значимым сразу в двух аспектах:
Во-первых, оно служит дополнительным свидетельством важности роли предупредительных и оздоровительных мероприятий, которые должен осуществлять современный человек без непосредственного обращения за помощью к врачу (self-madehealth). В то время как пропаганду по “формированию привычки ходить к врачу” в современной ситуации в большей степени следует рассматривать как элемент интенсивно раскручивающейся машины общества риска [8].
Во-вторых, оценка эффективности медицинских мероприятий требует дифференцированного подхода на индивидуальном и популяционных уровнях. Кроме того, требуется оценка их долговременного эффекта. Без учётов, этих моментов, в развитии основных хронических заболеваний, судить о роли медицинских факторов в долговременной динамике показателей заболеваемости и смертности не представляется возможным.
Материалы круглого стола содержат ряд других спорных замечаний в отношении работы системы здравоохранения, но их можно опустить, если принять за основу сведения об ограниченной значимости системы здравоохранения в формировании общепопуляционных демографических тенденций заболеваемости и смертности. Тогда совсем иное звучание приобретает ранее поставленный вопрос – Что делать, в государственном масштабе, чтобы улучшить демографические показатели?
Один из вариантов – самый примитивный, но он полностью соответствует духу авторитарного государства. Это оказать “давление на практику регистрации извне. Причина такого прессинга в том, что сейчас все, начиная от Минздрава и кончая властью, заинтересованы в том, чтобы у нас ситуация улучшалась. Поэтому прессинг идёт, и я думаю, что он идёт и на органы статистики”.
Некоторые из механизмов фальсификации статистических данных упоминались участниками круглого стола, но их позиция в большей степени свидетельствует о восприятии такой ситуации как должной, то есть махинации чиновников воспринимаются уже как обыденные, а “ если обнародовать, то нужно нас всех стрелять ”.
Безусловно, наказание тут не будет эффективным, вместо этого учёному-обществоведу стоит задуматься над вопросом: Существует ли в российском обществе опосредованная связь между причинами, принуждающими чиновников и врачей заниматься “выправлением” статистических показателей и причинами, обуславливающими формирование высоких показателей заболеваемости и смертности? Причём список этих взаимосвязанных проявлений, вероятно, следует расширить: например, сюда же отнести причины, заставляющие выезжать научных специалистов из страны или бедственное положение самой системы здравоохранения. Может для общества всё же первостепенное значение имеет не очередные декларации о реализации “последовательной государственной политики в области охраны здоровья” (то есть не “дальнейшее совершенствование качества жизни”), а системообразующие сдвиги в самом общественном устройстве? Тут следует согласиться с мнением участников, “что политические декларации - тоже политика в смысле создания иллюзии политической деятельности,…. Правда, в такой бездеятельности часто просматриваются чьи-то интересы”.
Список литературы За пределами демографии (по материалам круглого стола “Как преодолеть отставание России по продолжительности жизни”)
- Институт демографии НИУ ВШЭ и редакция «Демографического обозрения "Как преодолеть отставание России по продолжительности жизни" Круглый стол//Демографическое обозрение. -2015. -№ 2 (3). -С. 154-201.
- Wasserman D, Värnik A. Changes in life expectancy in Russia//Lancet. -2001. -Vol. 357. -P. 2058.
- Раков А.А., Кондричин С.В. Анализ смертности сельского населения Беларуси: Вторая половина XX -начало XXI столетия//Демографiя та соцiальна экономiка. -2007. -№1. -С. 61-73.
- Гундаров И. А. Духовное неблагополучие и демографическая катастрофа//Общественные науки и современность. -2001. -№ 5. -С. 58-65.
- Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. -2-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа. -2010. 512 с.
- Chawla A., Gunderman R.B. Defensive medicine: prevalence, implications, and recommendations//Academic Radiology. -2008. -Vol. 15, №7. -P. 948-949.
- Kessler D., McClellan M. Do doctors practice defensive medicine?//Quarterly Journal of Economics. -1996. -Vol. 111, № 2. -P. 353-390.
- Кондричин С.В. Оборонительные установки и дополнительные риски в кардиологической практике//Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи. -2014. -№ 1. -P. 21-30.
- Lisicyn Ju.P. Obshhestvennoe zdorov'e i zdravoohranenie: uchebnik. -2-e izd. M.: GJeOTAR-Media. -2010. 512 s. (In Russ)
- Chawla A., Gunderman R.B. Defensive medicine: prevalence, implications, and recommendations//Academic Radiology. -2008. -Vol.15, №7. -P. 948-949.
- Kessler D., McClellan M. Do doctors practice defensive medicine?//Quarterly Journal of Economics. -1996. -Vol. 111, № 2. -P. 353-390.
- Kondrichin S.V. Oboronitel'nye ustanovki i dopolnitel'nye riski v kardiologiche-skoj praktike//Voprosy jekspertizy i kachestva medicinskoj pomosh-hi. -2014. -№ 1. -P. 21-30. (In Russ)