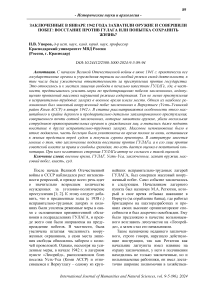Заключенные в январе 1942 года захватили оружие и совершили побег: восстание против ГУЛАГа или попытка сохранить жизнь?
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 9-5 (96), 2024 года.
Бесплатный доступ
С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 г. практически все государственные органы и учреждения перешли на особый режим своей деятельности, в том числе была ужесточена ответственность за преступления против государства. Это относилось и к местам лишения свободы в печально известном ГУЛАГе, где, в частности, предписывалось усилить меры по предотвращению побегов заключенных, недопущению проявлений массовых нарушений режима содержания. Тем не менее преступления в исправительно-трудовых лагерях в военное время имели место. Одним из наиболее резонансных был массовый вооруженный побег заключенных в Воркутлаге (Усть-Усинский район Коми АССР) в январе 1942 г. В статье рассматриваются особенности этого масштабного и крайне дерзкого и предварительно детально запланированного преступления, совершенного почти сотней заключенных, которые захватили оружие, убили нескольких сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, и пытались даже поднять восстание в других исправительно-трудовых лагерях. Массовое неповиновение было в итоге подавлено, часть беглецов были уничтожена во время погони за ними, оставшиеся в живых предстали перед судом и получили суровы приговоры. В литературе имеется мнение о том, что заключенные подняли восстание против ГУЛАГа, а в его лице против советской власти за права и свободы граждан, то есть дается оценка в позитивной коннотация. При всех негативных сторонах ГУЛАГа автор не согласен с такой оценкой.
Военное время, гулаг, усть-уса, заключенные, захват оружия, массовый побег, власть, суд
Короткий адрес: https://sciup.org/170207554
IDR: 170207554 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-9-5-89-94
Текст научной статьи Заключенные в январе 1942 года захватили оружие и совершили побег: восстание против ГУЛАГа или попытка сохранить жизнь?
После начала Великой Отечественной войны в СССР наблюдался рост интенсивности репрессий, и прежде всего речь идет о значительно возросшем количестве осужденных за уголовно-политические преступления [1; 2]. К этому следует добавить, что в предвоенные годы (с 1938 г.) исправительно-трудовых лагерях и колониях были усилены режимные меры в связи с осложнением криминогенной обстановки в подразделениях ГУЛАГА, и прежде всего они были направлены на предупреждение побегов. В частности, была увеличена штатная численность вооруженных охранников, а сами места лишения свободы обносились забором с колючей проволокой. Однако, несмотря на усиленные меры, в начале 1942 г. в лагерном пункте «Лесорейд», расположенном близ поселка Усть-Уса (Коми АССР) и относившемся к Воркутлагу - одному из круп нейших исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГА, был совершен массовый вооруженный побег. Само событие заключалось в следующем. Начальником лагерного пункта был назначен М.А. Ретютин, который в свое время отбывал наказание в Воркуте (за ограбление банка), где работал бригадиром на шахторазработках и проявил своих высокие организаторские способности и был досрочно освобожден. Ему было предложено в качестве вольнонаемного возглавить лесоучасток на «Лесорей-де», а затем стал его начальником.
Такое назначение недавнего заключенного, строго говоря, нарушало действующие инструкции, так как Ретютин как начальник лагпункта имел влияние на охрану заключенных, у него в подчинении находились не только заключенные, но и вольнонаемные работники, он имел достаточно широкие полномочия в хозяйствен- ной сфере. Но руководство Воркутлага пошло на такое назначение, так как при отсутствие иных кадров и жестких требованиях по выполнению плана, и тем более в военное время, не могло найти другого варианта (такое явление было распространенным в ГУЛАГе). В лагпункте отбывали наказание немело количество «политических» заключенных, в том числе А.Т. Макеев, бывший активный участник Гражданской войны, командир Красной Армии, бывший профсоюзный и хозяйственный руководитель, бывший член бюро Коми обкома ВКП(б), обвиненный в троцкизме, которому расстрел был заменен 15 годами лагерей. Ретюнин и Макеев сошлись по многим вопросам, которые они обсуждали вечерами в рабочем кабинете Ретютина. В какой-то момент предметом обсуждения стала их дальнейшая судьба. Поводом для этого стали слухи о том, что в связи с осложнением военной обстановки на фронте осужденных за преступления против государства («контрреволюционеров») и другие тяжкие преступления могут расстрелять. Следует заметить, что некоторые основания так полагать у них имелись, учитывая, что с началом войны режим в исправительнотрудовых лагерях был усилен, отменялись выходные, рабочий день был увеличен до 10-12 часов, были приняты и другие меры – в соответствии с Директивой НКВД СССР и Прокурора СССР от 22 июня 1941 г. [3]. Кроме того, еще не были забыты известные в арестнстких кругах так называемые «кашкетинские» и «гаранин-ские» массовые расстрелы в Коми АССР и на Колыме и Ухте в 1937-1938 гг.
Приведенных названия исходили от фамилий лагерных начальников (Кашке-тина и Гаранина), которые организовывали исполнение расстрельных приговоров «троек» в отношении троцкистов и других «врагов» советской власти (позже Кашке-тин и Гаранин сами попали под каток репрессий [4, с. 143]). В результате Ретюнин и Макеев решили, что надо спасть свои жизни, для чего договорились совершить побег. Как сильные и опытные организаторы они сумели привлечь на свою сторону еще ряд заключенных. В частности, как сообщал один из осведомителей оперативного отдела, Ретюнин говорил им: «Какая разница, что мы подохнем завтра или помрем сегодня ... Я знаю, что нас всех хотят погубить голодной смертью. Вот увидите, скоро в лагерях один другого будет убивать, а до этого существующая сейчас власть всех заключенных по контрреволюционным статьям перестреляет, в том числе и нас – задержанных вольнонаемных … все равно сдохнем, так лучше уж попробовать уйти и пожить еще на свободе» [5]. В процессе обсуждения было решено не просто совершить побег с целью добраться до советско-финской границы и перейти ее, но и призвать к массовым выступлениям заключенных других лагерных пунктов, которые встретятся на пути, в частности, предполагалось, что в населенных, которые будут «освобождены» и где восставших поддержит местное население, надо ликвидировать советскую власть, упразднить колхозы, вернуть частную собственность.
Вместе с тем нужно иметь в виду, что такого рода сведения о планах заключенных имеют только один источник – официальные документы правоохранительных и партийных органов, которым в определенной степени было выгодно представить побег заключенных как политическое восстание, которое удалось успешно подавить. На наш взгляд, подобные планы вряд ли имели место, поскольку были просто нереальны. Помимо Ретюнина и Макеева как организаторов побега, нашлось еще полтора десятка заключенных, согласившихся на активную подготовительную работу (запас продуктов, одежды, необходимый инвентарь, лошади, сани и т.д.). 24 января 1942 г. стал осуществляться план побега. Ретюнин назначил помывку бойцов охраны так, чтобы они почти все одновременно оказались в бане. В это время было захвачено их оружие, а сами бойцы были заперты. Были освобождены из-под охраны и другие заключенные (около двухсот человек), однако следовать за Ретюниным согласились только восемьдесят заключенных. Ретюницы переоделись в форму охранников и на санях в виде якобы служебного обоза из восьми подвод отпра- вились по намеченному маршруту. Однако с самого начала их план стал рушиться – вырвавшемуся из лагпункта бойцу охраны удалось сообщить о побеге. Кроме того, был убит другой боец охраны, и с этого момента уже не было никаких оснований считать ретюнинцев «борцами со сталинским тоталитаризмом», как это считают некоторые авторы [6]. В Усть-Усе их уже ждали, там пришлось столкнуться с вооруженной охраной местного аэропорта, а также с милицией (с жертвами с обеих сторон). Из Усть-Усы восставшие разделились на две части, несколько дней перемещались на север, заходя в небольшие населенные пункты, где им не оказывали сопротивления, думая, что это военнослужащие. Но от погони уйти не удалось, и уже 2 февраля последние сбежавшие заключенные были уничтожены (кто не сдавался) и задержаны. Макеев был застрелен, а Ретюнин застрелился сам, унеся с собой в могилу действительные их намерения.
Оставшиеся в живых участники побега и их пособники Особым совещанием НКВД СССР были осуждены (68 человек), в том числе в отношении 50 заключенных был применен расстрел. Особенность этого группового преступления заключенных заключалась в том, что оно являлось первым вооруженным массовым побегом (восстанием) в системе ГУЛАГа. За развитием событий пристально следил руководитель НКВД СССР Л.П. Берия, давший распоряжения предпринять необходимые меры по предупреждению такого рода преступлений. Разбор причин был предпринят не только в НКВД СССР, но и в Коми обкоме ВКП(б), были сделаны соответствующие оргвыводы.
Так, в Постановлении бюро Коми обкома ОК ВКП(б) «О контрреволюционном вооруженном выступлении заключенных Устьусинского лагпункта “Рейд” Воркутлага НКВД» раскрывались причины случившегося и были определены ответственные лица, в том числе указывалось следующее: «1. За необеспечение государственной безопасности в лагере тов. ШИШКИНА Алексея Семеновича с работы начальника оперчекотдела Воркутлага НКВД снять. Начальнику военизированной охраны тов. ГАЛКИНУ Александру Ивановичу за плохое состояние охраны заключенных в лагере объявить выговор с занесением в учетную карточку. 2. За нарушение режима содержания заключенных в лагере, повлекшее за собой к-р вооруженное выступление заключенных на лагпункте “Рейд” начальнику Воркутлага НКВД, члену ВКП(б) тов. ТАРХАНОВУ Леониду Александровичу поставить на вид. 3. Освободить тов. ЗАХЛАМИНА А.И. от работы начальника политотдела Воркутлага НКВД, как не обеспечившего политическое руководство лагерем и не выполнившего указание Обкома ВКП(б) от 1 ноября 1941 года об устранении недостатков в охране и содержании заключенных в лагере. 4. За плохое состояние боевой подготовки в подразделениях военизированной охраны тов. ГУСЕВА с работы начальника ВОХР Севжелдорлага СНЯТЬ … 6. Обратить внимание Наркома Внутренних дел Коми АССР тов. КАБАКОВА, что он несет персональную ответственность за состояние охраны заключенных в лагерях, расположенных на территории республики и досмотра в них постановки чекистской работы. Предупредить начальников оперативных отделов лагерей НКВД, что за плохое состояние оперативной работы в подразделениях Обком ВКП(б) виновных будет привлекать к строжайшей ответственности» [7, с. 63].
Нельзя на обратить внимания на то обстоятельство, что партийные структуры фактически решают кадровые вопросы, относящиеся к НКВД СССР, что показывало большую роль партийных органов в тот период истории советского государства. В НКВД СССР также были приняты соответствующие организационные решения. Так, 27 января, то есть спустя три дня после начала восстания и еще до окончания операции по его подавлению, была издана Директива [8], в частности, предписывалось охрану лагерей привести в боевую готовность, усилив охрану наиболее опасных контингентов заключенных, складов оружия и продовольствия, a также отдаленных и оторванных лагерных пунктов; личный состав охраны проинструкти- ровать, предупредив, что за всякое нарушение службы и ослабление бдительности виновные будут привлекаться к строжайшей ответственности; создать в лагерях и лагерных подразделениях из наличного состава военизированной охраны вооруженные маневренные группы; пересмотреть состав расконвоированных заключенных, приняв меры к немедленному законвоированию всех осажденных за контрреволюционные преступления и бандитизм; всех заключенных и бывших заключенных, судившихся за контрреволюционные преступления и бандитские преступления, занимающих в настоящее время должности начальников лагерных пунктов, командировок, подкомандировок, колонн и т.д., заменить вольнонаемными; начальникам оперативно-чекистских отделов лагерей проверить осведомительнyю сеть и агентуру, приняв меры к ее усилению и организован работу по выявлению повстанческо-бандитских настроений и намерений заключенных; на основе имеющихся материалов арестовать всех проходящих по агентурным разработкам лиц, высказывающих террористические настроения, готовящихся к вооруженным побегами бандитским выступлениям.
Помимо этого, в данной Директиве указывалось также: «Предупредить начальников лагерей, начальников оперативночекистских отделов лагерей, a также наркомов внутренних дел республики начальников УНКBД краев и областей, на территории которых расположены лагеря, что они несут полную и персональную ответственность за состояние охраны заключенных и постановку чекистско-оперативной работы в ИТЛ» [8]. Кроме того, 20 августа 1942 г. по всем лагерям и колониям НКВД СССР из Москвы была разослана докладная записка «Об усилении контрреволюционных проявлений в ИТЛ НКВД», где содержалось указание в месячный срок арестовать «всех заключенных, на которых имеются материалы об антисоветской работе в лагерях и колониях, высказывающих повстанческие настроения, а также ведущих подготовку к побегу» [9, с. 167]. Как видно, власть предприняла предупредительные меры, что позволило избежать подобного рода массовых вооруженных преступлений в исправительно-трудовых лагерях как во время войны, так и в первые годы после ее окончания.
Как оценивать это массовое вооруженное выступления заключенных? Здесь следует подчеркнуть, что заключенными во время побега (восстания) были совершены тяжкие преступления, в том числе убийства, и виновные за это должны были получить наказание. И в этом контексте мы не можем согласиться с тем, что данное вооруженное выступление заключенных трактуется едва не как подвиг. В частности, Д.М. Панин, описывая действия участников восстания заключенных, указывает, что они «уложили уйму солдат, но и почти все зэки были перебиты. Боеприпасы иссякли, и тем самым был решен исход боя. Оставшаяся горстка героев решила покончить с собой. Последним застрелился начальник отряда. Я называю их героями, ибо они доказали, что человек не может быть превращен в скотину, с которой расправляются, как хотят; нельзя уничтожать безоружных людей; нужно давать отпор людоедам и создать международное объединение против носителей зла, находящихся в состоянии преступной активности» [10, с. 42]. В другой работе действия указанных заключенных называют протестным выступлением [11, с. 39]. Однако с такими оценками мы не можем согласиться. Как справедливо отмечает Г.М. Иванова, «с вобода, добытая ценой жизни невинных людей, не может быть окрашена в героические тона» [12, с. 220]. Не могут считаться героями люди, главной целью действий которых было спасение своих собственных жизней. Такой подход ничуть не приукрашивает негативные стороны в деятельности ГУЛАГа, поскольку моральные ценности имеют свою силу при любом политическом режиме.
Список литературы Заключенные в январе 1942 года захватили оружие и совершили побег: восстание против ГУЛАГа или попытка сохранить жизнь?
- Шашмурин И.С. Современные представления о роли системы Главного управления лагерями периода 1930-1950 гг. в общественной жизни государства // Скиф. - 2018. -№ 6 (22). - С. 212-215.
- Система исправительно-трудовых лагерей в СССР: 1923-1960. Справочник / Составитель М.Б. Смирнов. - М.: Звенья, 1998. - 597 с.
- Приказ НКВД СССР и Прокуратуры СССР от 22.06.1941 г. // Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. -М.: Республика, 1993. - С. 158-159.
- Белова Н.А. История уголовно-исполнительной системы и органов юстиции: учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. - 295 с.
- Докладная записка заместителя наркома внутренних дел Коми АССР П.А. Корнилова на имя наркома внутренних дел республики С.И. Кабакова (датирована как «февраль 1942 г.) «О причинах, сделавших возможным к-р. выступление заключенных на Печоре 24 января 1942 года» // Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий: сб. док. В 13 т. Т. 7. / Сост. и комментарии: М.Б. Рогачев. Сыктывкар: Общ. фонд «Покаяние», 2005. - С. 194-195.
- Макеев С. Первый решительный (в начале 1942 г. произошло невероятное событие: заключенные подняли вооруженное восстание - первое в истории ГУЛАГа) // Совершенно секретно. - 2007. - № 9. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.sovsekretno.ru/articles/pervyy-reshitelnyy/ (дата обращения: 25.04.2024 г.).
- Постановление бюро Коми обкома ОК ВКП(б) от 01.04.1942 г. «О контрреволюционном вооруженном выступлении заключенных Устьусинского лагпункта "Рейд" Воркут-лага НКВД» // Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий: сб. док. В 13 т. Т. 7. / Сост. и комментарии: М.Б. Рогачев. - Сыктывкар: Общ. фонд «Покаяние», 2005. - С. 63-65
- Директива НКВД СССР начальникам ИТЛ, наркомам внутренних дел республик и начальникам УНКВД краев и областей от 27.01.1942 г. «О принятии мер к охране лагерей в связи с побегом заключенных их Воркутинского ИТЛ и нападением их на районный центр» // ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 45. Л. 102-103.
- По материалам следственных дел и лагерных отчетов ГУЛАГа / Сост. Осипова И.М.: Фонд «Мир и человек», 1993. - 224 с.
- Панин Д.М. Лубянка - Экибастуз: лагерные записки. - М.: Обновление, 1990. -576 с.
- Упадышев Н.В. Воркутинский исправительно-трудовой лагерь в годы Великой Отечественной войны // Вестник Северного (Арктического) федерального ун-та. Серия: «Гуманитарные и социальные науки». - 2012. - № 3. - С. 35-40.
- Иванова Г.М. Жизнь и борьба за колючей проволокой // История политический репрессий и сопротивления несвободе в СССР: Книга для учителей / Научный ред. В.В. Шелохавев. - М.: Мосгорархив, 2002. - С. 179-214.