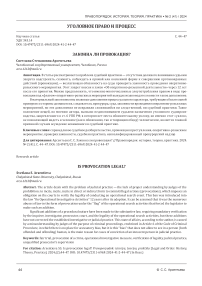Законна ли провокация?
Автор: Арсентьева С.С.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 2 (41), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема судебной практики - отсутствие должного понимания судьями запрета подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокации), - возлагающая обязанность на суды проверять законность проведения оперативно-розыскного мероприятия. Этот запрет внесен в закон «Об оперативно-розыскной деятельности» через 12 лет после его принятия. Можно предположить, что именно многочисленные злоупотребления правом в виде провокации под «флагом» оперативно-розыскных мероприятий вынудили законодателя внести такое дополнение. В материальный закон внесены знаковые дополнения процессуального характера, требующие обязательной проверки со стороны дознавателя, следователя, прокурора, суда, законности проведения оперативно-розыскных мероприятий, но эти дополнения не исправили сложившейся ни следственной, ни судебной практики. Такое положение вещей, по мнению автора, вызвано недопониманием судьями назначения уголовного судопроизводства, закрепленного в ст. 6 УПК РФ, в котором нет места обвинительному уклону, но именно этот «уклон», не позволяющий видеть в человеке (как в обиженном, так и творящим обиду) человеческое, является главной причиной случаев осуждение невиновного в судебной практике.
Справедливое судебное разбирательство, провокация преступления, оперативно-розыскное мероприятие, проверка законности, судебная практика, неквалифицированный прокурорский надзор
Короткий адрес: https://sciup.org/14130305
IDR: 14130305 | УДК: 343.14 | DOI: 10.47475/2311-696X-2024-41-2-44-47
Текст научной статьи Законна ли провокация?
Справедливое судебное разбирательство в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, когда одним из доказательств причастности лица к совершению преступления являются сведения, полученные при проведении оперативно-розыскного мероприятия, возможно лишь при законности его проведения. Это и должен проверить суд в ходе судебного разбирательства.
К сожалению, это очевидное требование закона зачастую не исполняется в ходе судебного разбирательства, а также при рассмотрении жалоб на приговор в вышестоящих судах общей юрисдикции.
В соответствии с абз. 4 ч. 8 ст. 5 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — закон об ОРД), которая называется «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина», при осуществлении оперативно-розыскной деятельности запрещается: подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация)1. Этот запрет внесен в закон «Об оперативно-розыскной деятельности» через 12 лет после его принятия. Можно предположить, что именно многочисленные злоупотребления правом в виде провокации под «флагом» необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ) вынудили законодателя внести такое дополнение. Но в судебной практике ничего не поменялось и после введения этого требования по запрету провокации при оценке сведений, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам.
Описание исследования
Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации2 (далее — КС РФ), подтвержденной неоднократно в его решениях, КС РФ указал, что положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» не освобождают органы и должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, от обязанности обеспечивать при проведении конкретных оперативно-розыскных мероприятий соблюдение законов, защиту прав и свобод граждан, равно как не исключают и применение различных средств контроля, включая судебный, за законностью и обоснованностью проводимых мероприятий и использованием их результатов в уголовном судопроизводстве3.
В данном случае создалась ситуация, когда в закон вносятся знаковые дополнения, требующие уже безусловной, обязательной проверки со стороны дознавателя, следователя, прокурора, суда законности проведения ОРМ, но эти дополнения не воспринимаются правоприменителями и судебной практикой именно как обязательные.
Такое положение вещей, как представляется, вызвано недопониманием властными участниками уголовно-процессуальной деятельности назначения уголовного судопроизводства, закрепленного в ст. 6 УПК РФ, в котором нет места обвинительному уклону, но именно этот «уклон», не позволяющий видеть в человеке (как в обиженном, так и творящим обиду) человеческое, по нашему мнению, является главной причиной допущение провокации при проведении ОРМ.
Если сослаться на правовые позиции ЕСПЧ (хотя это уже не так актуально), то нужно признать, что для практики применения закона об ОРД они являлись не-политизированными и до последнего времени были авторитетными в вопросах применения данного специального закона.
Так, на сайте Пермского краевого суда представлен сборник «Научно-консультативного Совета» (№ 2/2014)4 , и в нем прямо указано на то, что для правильного понимания термина «вмешательства» или «провокации» следует руководствоваться не только Обзором судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденным постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации 27.06.2012, но и постановлениями Европейского суда по правам человека по делам «Ваньян против Российской Федерации» от 15.12.2005 г., «Худобин против Российской Федерации» от 26.10.2006 г., «Банникова против Российской Федерации» от 04.11.2010 г., «Веселов и другие против Российской Федерации» от 2 октября 2012 г., «Давитидзе против России» от 30 мая 2013 г.
Представляется, что тем, кто непосредственно занимается проблемами доказывания по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, эти решения ЕСПЧ знакомы. Особо среди них выделяется, с точки зрения обстоятельности анализа, дело «Веселов и другие против Российской Федерации».
Главное условие, которое не должно быть нарушено для признания ОРМ законным, заложено в правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», изложенной в абзаце первом п. 14 Постановления1.
В тех случаях, когда материалы уголовного дела о преступлении рассматриваемой категории содержат доказательства, полученные на основании результатов оперативно-розыскного мероприятия, судам следует иметь в виду, что для признания законности проведения такого мероприятия необходимо, чтобы оно осуществлялось для решения задач, непосредственно указанных в ст. 2 закона об ОРД. При этом должны быть указаны и соблюдаться условия, предусмотренные соответственно ст. 7 и 8 указанного закона. Исходя из этих норм, в частности, оперативно-розыскное мероприятие, направленное на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступления, а также выявление и установление лица, его подготавливающего, совершающего или совершившего, может проводиться только при наличии у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведений об участии лица, в подготовке или совершении противоправного деяния.
Казалось бы, все достаточно ясно, но, к сожалению, на практике не все так однозначно с пониманием данной позиции, в которой ключевым является право на проведение ОРМ «только при наличии у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведений об участии лица…».
Так, например, «Б. был осужден по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В апелляционной жалобе он просил отменить приговор, так как уголовное дело сфабриковано. Судебная коллегия отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение.
Суд первой инстанции сослался в приговоре на показания свидетеля под псевдонимом С., оперуполномоченного Ш., материалы проверочной закупки, протокол обыска. Суд признал эти доказательства допустимыми, однако если провести хотя бы формальную проверку, вырисовывается опять тот же обвинительный уклон. А именно:
— обыск проведен с нарушением закона — на основании судебного решения от 09.04.2015, то есть до возбуждения дела в отношении Б. В решении указано, что оно принято в рамках уголовного дела в отношении другого лица. Суд не выяснил относимость этого постановления к делу Б. и не проверил, не было ли реализовано это постановление ранее;
— в приговоре суд сослался на показания свидетеля С. о виновности Б., при этом С. ранее привлекался к проведению проверочных закупок. Суд не проверил, оказывал ли С. услуги полиции на постоянной основе, что следовало учесть при оценке его показаний»2.
Необходимо заметить, что отсутствие сведений у оперативных сотрудников о совершении преступлений лицом, в отношении которого проводится ОРМ, по сути приводит к незаконности проведение этих мероприятий. А квалификация действий лица, передавшего наркотик другому лицу, которое находится под контролем полиции и добровольно участвует в ОРМ, является спорной: на что лицо спровоцировано — на сбыт или на посредничество в приобретении наркотиков? Но при этом отрицается провокация, а действия оперативных сотрудников признаются законными.
В судебной практике имеют место быть прецеденты, которые подтверждают, что сущность закона об ОРД остается непонятой правоприменителями, допускающими возможность проведения ОРМ даже осужденным.
По одному из дел в отношении осужденного лица в приговоре указано, что «с целью получения от Ч. оперативной информации о совершенных на территории пгт… преступлениях» сбыл «осужденному Ч., действовавшему в соответствии с Федеральным законом “Об оперативно-розыскной деятельности”» 3, наркотическое вещество.
Феномену такого явления в уголовном судопроизводстве необходимо уделить особое внимание, учитывая, что «законность» действия осужденного «в соответствии» с законом об ОРД, не поставлена под сомнение вышестоящими судами. Это при том, что даже в учебниках по уголовно-процессуальному праву без всяких альтернатив обращается внимание студентов на то, что «оперативно-розыскная деятельность осуществляется уполномоченными органами» [1, с. 476].
Е. А. Доля в монографии, посвященной формированию доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, пришел к выводу, что закон об ОРД не конкретизирует порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс, не устанавливает он и требований, которым указанные результаты должны отвечать. Обходит молчанием данные вопросы и действующее уголовно-процессуальное законодательство» [2, с. 278].
Действительно, этого нет в указанных законах, но вызывает сомнение необходимость такой мелочной детализации, при наличии общих правил, в которых законодатель указал свою позицию.
Русский ученый-правовед криминалист и практик Л. Е. Владимиров в труде об уголовных доказательствах, поучительном и актуальном до настоящего времени, так сформулировал свое мнение об уголовно-процессуальном законе и логике уголовного процесса: «Правила о том, как должны быть собираемы доказательства и как ими следует пользоваться судье, для того чтобы он мог вернейшим путем достичь истины в деле исследования прошедшего факта, составляют содержание логики уголовного процесса. Эта логика, в свою очередь, определяет содержание Уголовно-процессуального кодекса» [3, с. 84].
О. Я. Баев, Д. А. Солодов в своей работе, раскрывая «генезис и сущность закрепленных в Уголовно-процессуальном кодексе РФ норм доказательственного права» усмотрели логику уголовного процесса, которая до настоящего времени, к сожалению, не воспринимается судебной практикой в полной мере. По мнению О. Я. Баева и Д. А. Солодова, при рассмотрении условий законности проведения ОРМ, при оценке поступивших материалов «оперативно-розыскной деятельности с точки зрения возможности их использования в доказывании, следователь в первую очередь должен оценить, соблюдено ли при осуществлении конкретных оперативно-розыскных мероприятий это категорическое требование, не являются ли его результаты следствием учиненной в отношении разрабатываемого лица провокации» [4, с. 166].
Заключение
Как представляется, чтобы эта логика была воспринята правоприменителями, необходимо внести в ст. 73 УПК РФ дополнения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, а именно, доказывания правомерности проведения ОРМ при расследовании уголовных дел и рассмотрении их в суде. Ведь цель ОРД — получение оперативной информации, которая должна быть проверена процессуальным путем. И только результаты следственных действий, проведенных для их проверки, по закону могут быть признаны доказательством в суде.
Следует внести дополнение в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 55 от 29 ноября 2016 г. «О судебном приговоре» и обратить внимание судов на то, что в законе об ОРД содержится императивная норма о запрете провокации, что обязывает суды при рассмотрении уголовных дел обращать внимание на соблюдение этого запрета в ходе предварительного расследования.
Однако предложенные новации не дают ответа на поставленный В. Н. Борковым категорический вопрос: «Жертва оперативной провокации или преступник?» [5, с. 111–116] в силу того, что применение любого закона не застраховано от нарушений его предписаний, так как идеального правосудия человечество еще не выдумало, но существует запрос правоприменительной практике на решение «вопросов, сложившихся в одном из важнейших направлений человеческой деятельности в рассматриваемой области — использование данных, полученных оперативно-розыскным путем, в уголовном судопроизводстве» [6, с. 121–126].
Список литературы Законна ли провокация?
- Курс уголовного процесса / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. В. Головко. 2-е изд., испр. Москва: Статут, 2017. 1280 с.
- Доля Е. А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: монография. Москва: Проспект, 2014. 376 с.
- Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула: Автограф, 2000. 464 с.
- Баев О. Я., Солодов Д. А. Производство следственных действий: криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации: практическое пособие. Москва: Эксмо, 2009. 208 с. EDN: UOUPHN
- Борков В. Н. Жертва оперативной провокации или преступник? // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 2 (86). С. 111-116. DOI: 10.35750/2071-8284-2020-2-111-116 EDN: YJZOVJ
- Гоннов Р. В., Гончаров К. В., Затона Р. Е. Возможности использования данных, полученных оперативным путём, в уголовном процессе // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 12 (151). C. 121-126. EDN: SKNSAL