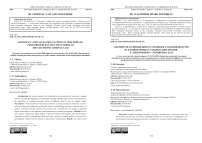Законность и унификация в уголовном судопроизводстве: от бланков процессуальных документов - к электронному уголовному делу
Автор: Вилкова Т.Ю., Масленникова Л.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 4 (46), 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение: статья посвящена анализу значения электронного уголовного дела для обеспечения законности уголовного судопроизводства и его влияния на унификацию уголовно-процессуальной формы различных государств в условиях новой цифровой реальности. Цель: на основе обобщения исторического опыта применения бланков процессуальных документов в российском уголовном процессе и результатов перехода на электронное уголовное дело ряда современных зарубежных государств показать перспективы использования цифровых технологий для обеспечения законности и унификации уголовного судопроизводства. Методы: исторический, сравнительно-правовой, эмпирические методы описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Применялись частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: анализ развития российского и зарубежного уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики показал, что бланки процессуальных документов и электронное уголовное дело способны обеспечивать стандартизацию и законность уголовно-процессуальной деятельности при условии соответствия их содержания требованиям закона и отказа от чрезмерной детализации; унифицирующее влияние электронного уголовного дела на уголовный процесс государств различных правовых семей проявляется в необходимости дальнейшего развития состязательности в досудебном производстве России и обеспечения доступа к правосудию. Выводы: для адаптации российского уголовного процесса к новой цифровой реальности и введения электронного уголовного дела необходима трансформация его досудебных стадий, включая новый подход к досудебному производству как к государственной услуге по обеспечению гражданам доступа к правосудию; предоставление участникам, не наделенным властными полномочиями, права обращаться в суд с ходатайствами о депонировании доказательств, о принятии мер по обеспечению гражданского иска и др.; возложение на прокурора полномочий по выдвижению, обоснованию обвинения и впоследствии поддержанию его перед судом; создание единой цифровой платформы для электронного взаимодействия государственных органов и должностных лиц между собой и с гражданами при обеспечении всем участникам цифрового равенства.
Электронное уголовное дело, цифровизация уголовного судопроизводства, цифровые технологии, бланки процессуальных документов, уголовно-процессуальная форма, унификация, стандартизация, законность, доступ к правосудию, цифровое равенство
Короткий адрес: https://sciup.org/147227601
IDR: 147227601 | УДК: 347.1 | DOI: 10.17072/1995-4190-2019-46-728-751
Текст научной статьи Законность и унификация в уголовном судопроизводстве: от бланков процессуальных документов - к электронному уголовному делу
Государство во все времена стремилось и стремится организовать деятельность в сфере уголовной юстиции наиболее эффективно. Развитие общественных отношений, технический прогресс заставляют пересматривать модель уголовного судопроизводства не только в плане регламентации общественных отношений в этой сфере, но и в плане наиболее эффективной организации деятельности государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
Длительное время одним из важных направлений обеспечения законности уголовнопроцессуальной деятельности в сочетании с ее рационализацией, оптимизацией была подготовка бланков процессуальных документов, в которых требовалось лишь заполнить необходимые графы.
Развитие цифровых технологий и внедрение во все сферы жизни принципиально меняют наши представления об организации деятельности, ее оптимизации и эффективности, в том числе и в сфере уголовного судопроизводства. Применительно к составлению всех видов документов для обеспечения их соответствия требованиям закона открываются широкие перспективы при введении электронного уголовного дела, в котором на смену традиционным бумажным бланкам приходят электронные формы заявлений, ходатайств, жалоб, постановлений, определений, приговоров, требующие заполнения в режиме онлайн с соблюдением заранее заданных условий и параметров.
Not only the legitimacy of a specific document but also the standardization of all criminal procedure activities is ensured both within a separate criminal case and criminal proceedings as a whole. The use of electronic criminal case on the basis of a single state digital platform for the court, parties, and other participants in criminal proceedings helps completely eliminate most mistakes made while completing the documents (for example, omission of the place of drawing up the act, absence of signature or references to legal norms, and other errors will not allow the user to complete the creation of a document). It can be assumed that the introduction of electronic cases will lead to new opportunities for generalizing the shortcomings of law enforcement practice and bringing it into line with law at the state level.
Moreover, digital criminal proceedings may affect, within certain limits, the unification of the criminal procedure form in various states, primarily by including new adversarial elements into the pre-trial proceedings of the continental legal system countries. This can be explained by the fact that the different procedures for collecting and presenting evidence by parties in the pre-trial proceedings in the states belonging to different legal systems also entail differences in the criminal case initiation procedures, which will inevitably be demonstrated in the content and process of entering data into an electronic criminal case. Electronic document forms should be generated in accordance with both national law and generally recognized principles and norms of international law, Russia’s international treaties, and case law of the European Court of Human Rights. This will require consideration of the impact of the ongoing state integration into the international community on the national criminal procedure legislation in the conditions of digital technology development.
The purpose of this study is to show the prospects of using digital technologies to ensure the legitimacy and unification of criminal proceedings based on the historical experience in applying procedural documents in the Russian criminal process and taking into account the results of transition to electronic criminal cases in a number of modern foreign countries.
To achieve this goal, it is necessary:
-
- to assess the experience of using procedural documents in the pre-revolutionary, Soviet, and post-Soviet criminal proceedings;
-
- to analyze the experience of digitalization in the criminal proceedings of foreign countries, identify advantages and disadvantages of electronic criminal cases, determine their significance for the legitimacy, standardization, and unification of criminal proceedings;
-
- to show the impact of electronic criminal cases on the possible transformation of pre-trial proceedings in the countries belonging to the continental legal system;
-
- to justify the ideas aimed at improving Russian pre-trial criminal proceedings by introducing new elements of competitiveness and mechanisms aimed at ensuring access to justice.
At the Onset of Digitalization in Criminal Proceedings
The forms of various papers, which are developed by the state and constitute a significant portion of the classical criminal case materials, may be considered as predecessors of electronic criminal case with respect to the main parameters of procedural documents.
A form is ‘a sheet with partially printed text with the remainder to be filled in’ [39, p. 46].
The use of forms of procedural documents (in paper and electronic form) can be explained by the fact that criminal proceedings are mainly conducted in writing. ‘The content of a procedural document, sequence of procedural actions, adoption of proceeding decisions as reflected in the procedural document, completeness of the explanation of rights to participants in the criminal investigation procedure, or other procedural actions affect the course and content of the criminal proceeding in a specific criminal case’ [26, p. 767].
При этом не только обеспечивается законность конкретного документа, но и происходит стандартизация всей уголовно-процессуальной деятельности как в рамках отдельного уголовного дела, так и в более широком пространстве - уголовного судопроизводства в целом. Электронное уголовное дело, действующее на основе единой государственной цифровой платформы, объединяющей всех участников уголовного судопроизводства - суд, стороны, иных участников, - способно полностью исключить большинство ошибок, допускаемых при составлении документов (например, неуказание места составления акта, отсутствие подписи, ссылок на нормы закона и т.д. не позволит пользователю завершить создание документа). Можно предположить, что введение электронного дела создаст новые возможности для обобщения недостатков правоприменительной практики и приведения ее в соответствие с законом на государственном уровне.
Более того, цифровизация уголовного судопроизводства может в определенных пределах оказать влияние и на унификацию уголовно-процессуальной формы различных государств, в первую очередь за счет включения новых состязательных элементов в досудебное производство государств континентальной системы права. Это обусловлено тем, что различный порядок собирания и представления доказательств сторонами в досудебном производстве в государствах, принадлежащих к различным правовым системам, влечет и различия в формировании уголовного дела, что неизбежно проявится в содержании и порядке наполнения электронного уголовного дела. Разработка электронных форм документов должна осуществляться не только в соответствии с национальным законодательством, необходимо учитывать общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры России, прецедентную практику Европейского Суда по правам человека, а также влияние процессов интеграции государств в международное сообщество в условиях развития цифровых технологий на национальное уголовно-процессуальное законодательство.
Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы на основе обобщения исторического опыта применения бланков процессуальных документов в российском уголовном про цессе и результатов перехода ряда современных зарубежных государств на электронное уголовное дело показать перспективы использования цифровых технологий для обеспечения законности и унификации уголовного судопроизводства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-
- обобщить и оценить опыт применения бланков процессуальных документов в дореволюционном, советском и постсоветском уголовном процессе;
-
- проанализировать опыт цифровизации уголовного судопроизводства зарубежных государств, выявить преимущества и недостатки внедрения электронного уголовного дела, определить его значение для обеспечения законности, стандартизации и унификации уголовного судопроизводства;
-
- показать роль электронного уголовного дела в процессе возможной трансформации досудебного производства в государствах континентальной системы права;
-
- обосновать предложения, направленные на совершенствование российского досудебного производства по уголовным делам посредством введения новых элементов состязательности и механизмов, направленных на обеспечение доступа к правосудию.
-
У истоков цифровизации уголовного судопроизводства
Предшественниками электронного уголовного дела в части заданности основных параметров процессуальных документов являлись разрабатываемые государством бланки различных бумаг, составляющие значительную часть материалов классического уголовного дела.
Бланк - «это лист с частично напечатанным текстом, в остальной части подлежащий заполнению» [39, с. 46].
Необходимость в бланках процессуальных документов (независимо от того, на каком носителе он выполнен - традиционном бумажном или перспективном электронном) обусловлена тем, что уголовное судопроизводство в значительной части имеет письменную форму. «От содержания процессуального документа, последовательности осуществляемых процессуальных действий и принятия процессуальных решений, отображаемой в процессуальном до-
Vi lkova T. Y., Maslennikova L. N.
Вилкова Т. Ю., Масленникова Л. Н.
The first information on such activities dates back to the pre-reform period when the State Chancellery prepared forms of court notifications.
The letterheads of procedural documents became widespread after the Judicial Reform of 1864: they were used both in judicial chambers and district courts [4, p. 73], by peace justices [59, p. 368] and judicial investigators [64, pp. 106– 107]. There were some differences in the requirements for the use of letterheads of reference documents and letterheads of minutes and procedural decisions. The use of the former was defined by the circular letters of the Ministry of Justice. For example, in accordance with Article 263 of the Criminal Procedure Charter of 1864, the judicial investigator was supposed to send a notice of any initiated investigation to the prosecutor and the department of the Ministry of Justice. Such a notice was prepared on a special letterhead with the upper part made in the form of a coupon that remained in the procedural documents of a case; the middle part was forwarded to the prosecutor, and the lower one was sent to the department of the Ministry of Justice [42, pp. 247–248]. The use of the latter was allowed to a limited extent and ‘only for the action heading purposes, and not for the action execution purposes or action essence purposes’ [50, p. 309]. Otherwise, ‘when using letterheads, it is impossible to follow the progress of each case and it can be assumed that these letterheads will be included in the procedural documents without any judgment on them’ [64, p. 138]. The Senate repeatedly indicated that in case procedural document forms are applied (minutes, regulations of judicial investigator, and court decisions), they should include only formal, non-modifiable parts of such minutes or decision, with appropriate gaps to be left as they are, but not the essence of an action or decision constituting its subject [64, pp. 340, 276], as it is impossible to foresee in advance how an action will occur, and the use of ready-made forms ‘may lead to various inconveniences while correcting printed documents in ac- cordance with the occurred actions and may result in some actions left unchanged’ [62, p. 806]. However, the use of letterhead was not considered as a basis for vacating a court sentence in the situations when a cassation appeal did not contain any signs of violation of the material forms and procedures of judicial proceedings [62, p. 806].
Thus, the first application of the forms of procedural documents revealed their advantages and disadvantages. On the one hand, they simplified the work of law enforcers and eliminated some omissions and errors. For example, the use of letterhead led to the inclusion into the document of such minimum mandatory details as the time and place of its preparation, signature of drafter, etc. On the other hand, it showed that the use of an over-detailed letterhead could lead to a discrepancy in its content with the actual course and results of the procedural action, and when making a decision to the artificial use of the templates contained in the letterhead, for example, in the context of the grounds for its adoption.
In the Soviet period, ready-made forms of procedural documents became even more widespread in the law enforcement, which had two positive effects.
Firstly, the use of forms optimized the procedural activity, simplified and accelerated it being a part of the ‘mechanization’ and ‘automatization’ process in the paperwork [22, p. 578; 23, p. 868]: the completion of ready-made letterheads took much less time than the preparation of procedural acts and their copies by hand [28, p. 226; 29, p. 195; 27, p. 1003]. Due to the lack of ready-made letterheads in the first years of the Soviet period, the law enforcement officers tried to use any available means to produce them: rotators, hectograph, typewriters [57, p. 120]. It was suggested to elaborate special stamps for the production of convocation letters [7, p. 286]. In addition, supplies of letterheads ‘from the center’ significantly reduced production costs [20, p. 461].
кументе, полноты разъяснения прав участникам следственного действия или иного процессуального действия напрямую зависит ход и содержание уголовного судопроизводства по конкретному уголовному делу» [26, с. 767].
Первые сведения о такой деятельности относятся еще к дореформенному периоду, когда Государственная канцелярия изготавливала бланки повесток.
Широкое распространение печатные бланки процессуальных документов получили после судебной реформы 1864 года: они использовались и в судебных палатах, и в окружных судах [4, с. 73], и мировыми судьями [59, с. 368], и судебными следователями [64, с. 106–107]. При этом различались требования к применению бланков документов справочного характера и бланков протоколов и процессуальных решений. Первые не только были разрешены, но и предусматривались циркулярами Министерства юстиции. Например, в соответствии со статьей 263 Устава уголовного судопроизводства 1864 года, судебный следователь должен был направить уведомление о всяком начатом им следствии прокурору и в департамент Министерства юстиции. Такое уведомление исполнялось на специальном бланке, верхняя часть которого представляла собой купон, остававшийся в деле, средняя препровождалась прокурору, а нижняя отсылалась в департамент Министерства юстиции [42, с. 247–248]. Вторые допускались ограниченно и «только для означения заголовка действий, а не для означения того, как сами действия происходили и в чем они заключались» [50, с. 309]. В ином случае «при употреблении печатных бланков невозможно проследить за ходом каждого дела и можно предположить, что бланки эти присоединяются к делам без всякого по ним суждения» [64, с. 138]. Сенат неоднократно указывал, что если и можно допустить изготовление бланков процессуальных документов (протоколов, постановлений судебного следователя и судебных решений), то в них должны означаться лишь формальные, не подлежащие изменению части протокола или решения с оставлением надлежащих пробелов, но не сущность действия или постановления, составляющего его предмет [64, с. 340 и 276], поскольку нельзя предусмотреть заранее, как будет происходить то или иное действие, и использование готовых бланков
«может повести к различным неудобствам в исправлении печатного согласно с происходившими действиями и к оставлению некоторых действий без исправления» [62, с. 806]. Однако использование бланков само по себе не служило основанием к отмене приговора при отсутствии в кассационной жалобе указания на нарушение существенных форм и обрядов судопроизводства [62, с. 806].
Таким образом, уже первый опыт использования бланков процессуальных документов выявил их достоинства и недостатки. С одной стороны, они позволяли упростить труд правоприменителя, исключить некоторые упущения и ошибки. Например, использование бланка побуждало включить в документ такие минимальные обязательные реквизиты, как время и место его составления, подпись составителя и др. С другой – показало, что использование излишне подробного бланка может привести при составлении протокола к несоответствию его содержания действительному ходу и результатам процессуального действия, а при принятии решения – к искусственному использованию содержащихся в бланке шаблонов, например, в части оснований его принятия.
В советский период готовые бланки процессуальных документов получили более широкое распространение в правоприменительной деятельности, что позволяло выполнять несколько задач.
Во-первых, использование бланков оптимизировало процессуальную деятельность, упрощало и ускоряло ее, являлось частью процесса «машинизации», «механизации» и «трафаре-тизации» в делопроизводстве [22, с. 578; 23, с. 868]: заполнение готовых бланков происходило существенно быстрее, чем изготовление процессуальных актов и их копий от руки [27, с. 1003; 28, с. 226; 29, с. 195]. Поскольку готовых, изготовленных типографским способом бланков в первые годы советской власти не хватало, в правоприменительной практике старались использовать любые доступные средства для их получения или изготовления: ротаторы, шапирографы, пишущие машинки [57, с. 120], высказывались предложения о создании специальных штампов для изготовления повесток [7, с. 286]. Кроме того, снабжение бланками «из центра» позволяло существенно снизить расходы на их изготовление [20, с. 461].
Secondly, the use of forms developed by highly qualified specialists of the People’s Commissariat of Justice [2, p. 900], regional [17, p. 936] and provincial [55, p. 30] courts made it possible to avoid mistakes in law enforcement and also helped in choosing the correct sequence of actions when mistakes were committed and therefore the appropriate decisions were to be made. This circumstance was of particular importance in the first decades of the Soviet regime when the personnel of law enforcement authorities and courts had a low educational level and insufficient work experience.
In the Soviet period, the attitude to the forms of procedural documents was also ambiguous. Along with the general recognition of the acceleration of the work of the preliminary investigation bodies, prosecutor’s office and court [49, p. 352], the use of ready-made forms could give the criminal proceeding participants an impression of insufficient individuality, conventionality of procedural act, and undermine its credibility as an act of public authorities. This opinion was reflected in the Joint Circular of the People’s Commissar of Justice and the RSFSR Prosecutor’s Office and the President of the RSFSR Supreme Court as of July 16, 1926, which noted that the ready-made letterheads could not be used in the preparation of court records: ‘This procedure should be eliminated in judicial practice in the strongest possible terms, since the minutes drawn up on such forms do not fully reflect all the actions of court and parties that actually took place at the court session. In addition, there are some doubts with regard to the real execution of certain procedural actions that are extremely important, for example, explanations to the defendant of their rights, questionnaires on petitions, etc., marked in print before the court session. Therefore ... the court records should include all the actions of court and parties, once they take place and in the manner they are recorded at the court session. The court record can be printed only after the court session is finished by retyping the hand-drawn minutes with a typewriter’.1 The use by the courts of letterheads of court records with the pre-arranged text containing unnecessary details with regard to the actions indicated in Article 264, 277, 278 and other articles of the RSFSR Criminal Procedure Code of 19232 served as a basis to vacate sentences by higher courts [5, pp. 91-92]. However, this did not prevent the use of ready-made forms as a ‘template’, a model, ‘so that the third parties would not be aware of the use of screen-printing’ [23, p. 868].
The correct drafting of procedural documents was facilitated, especially during periods of refusal from forms, by the samples of regulations, sentences, court records, etc. Unlike the prerevolutionary period, when there was a lack of such publications [12; 16; 32; 47; 65], in the Soviet times they were widely published in periodicals3 and numerous collections of articles [3; 21; 30; 43; 44], special editions [46, pp. 193-263], which ‘stated and explained the most important issues in a systematic manner ...in the context of technology, law, and judicial practice’ [45], educational and scientific literature [51, p. 27]. Procedural acts from law enforcement practice were also used as samples.
The forms included in the text of legal acts were especially important for ensuring the procedural form of various documents. They were used for the first time when a questionnaire drawn up by the investigator and the inquiry officer upon detection of corpses and their parts was approved by Circular No. 104 of the Chairman of the Petrogub-sud as of May 25, 1923. The form included a questionnaire containing data of a decedent, documents and belongings born by them, identifier and communicator of information on the corpse, time and place of corpse detection, time and place of death of a person who was present at the moment of the decedent’s death, information on any preagonic
Во-вторых, использование бланков, разработанных высококвалифицированными специалистами народного комиссариата юстиции [2, с. 900], краевых [17, с. 936] и губернских [55, с. 30] судов, позволяло избегать в правоприменительной деятельности ошибок, подсказывало правильную последовательность действий при их совершении и принятии решений. Данное обстоятельство имело особое значение в первые десятилетия советской власти, когда кадровый состав правоохранительных органов и судов характеризовался низким уровнем образования и недостаточным опытом работы.
Отношение к бланкам процессуальных документов было неоднозначным и в советский период. Наряду с общим признанием ускорения и упрощения работы органов предварительного расследования, прокурора и суда при использовании бланков [49, с. 352] высказывалось опасение, что использование готовых форм может создать у участников уголовного судопроизводства впечатление о недостаточной индивидуальности, шаблонности самого процессуального акта, подорвать доверие к нему как к акту органов государственной власти. Эта точка зрения нашла отражение в совместном циркуляре народного комиссара юстиции и Прокуратуры РСФСР и Председателя Верховного Суда РСФСР от 16 июля 1926 года, в котором указывалось на недопустимость использования готовых печатных бланков при составлении протоколов судебных заседаний: «Такой порядок в судебной практике должен быть изжит самым решительным образом, так как составленные на таких бланках протоколы не отражают полностью всех действий суда и сторон, которые имели место в действительности на судебном заседании. К тому же относительно отдельных процессуальных действий, имеющих крайне важное значение, например, разъяснения подсудимому его прав, опроса о ходатайствах и т. д., отмеченных печатным текстом уже заранее, до судебного заседания по делу, возникает сомнение в том, были ли они произведены в действительности. Поэтому ... в протокол судебного заседания секретарем должны заноситься все действия суда и сторон, по мере того и в том виде, как они имели место на судебном заседании. Изготовление же печатного протокола может иметь место лишь после судебного заседания путем перепечатывания па машинке со ставленного от руки протокола»1. Использование судами печатных бланков протоколов, в которых заранее заготовленный текст излишне подробно перечислял действия, предусмотренные статьями 264, 277, 278 и другими статьями УПК РСФСР 1923 года2, служило основанием к отмене приговоров вышестоящими судами [5, с. 91-92]. Впрочем, это не препятствовало использованию готовых бланков в качестве «трафарета-образца», модели с тем, однако, «чтобы о применении трафаретного содержания не было известно посторонним» [23, с. 868].
Правильному составлению процессуальных документов способствовали, особенно в периоды отказа от бланков, образцы постановлений, приговоров, протоколов судебного заседания и т. и. В отличие от дореволюционного периода, когда таких изданий было совсем немного [12; 16; 32; 47; 65], в советское время они широко публиковались в периодической печати3, многочисленных сборниках [3; 21; 30; 43; 44], специальных изданиях [46, с. 193-263], где «в систематическом порядке изложены и разъяснены основные вопросы ... с точки зрения техники, закона и судебной практики» [45], учебной и научной литературе [51, с. 27]. Роль образцов выполняли и примеры процессуальных актов из правоприменительной практики.
Особая роль в обеспечении процессуальной формы различных документов принадлежала бланкам, которые включались в текст правовых актов. Первым опытом такого рода стало утверждение циркуляром Председателя Петрогубсуда от 25 мая 1923 г. № 104 формы опросного листа, составляемого следователем и дознавателем при обнаружении трупов и их частей. Форма предусматривала включение в опросный лист сведений о личности покойного, найденных при нем документах и вещах, о том, кем труп опознан и кем сообщены указанные выше сведения, время и место обнаружения трупа, время и место смерти лица, кто присут- sufferings, any recently suffered diseases, name and period of the disease, information on whether the decedent sought help from a doctor and who was their doctor, information on the person who provided the indicated information about the decedent’s state of health, whether there were suspicions of violence, by whom these suspicions were expressed and on what basis, whether there were any indications of other criminal act and which one, whether there were any injuries on the corpse providing evidence on the violence inflicted by someone. The forms of such court notifications and summons were presented by Circular No. 75 of the RSFSR People’s Commissariat of Justice to territorial, regional, and provincial courts and prosecutors ‘On the Enforcement of the Agreement of the NCPT of the USSR and the NCJ of the RSFSR on the Procedure for Sending and Delivering Judicial Summons and Notices’1 as of April 17, 1928. The sample wording of the prosecutor’s decision made in accordance with Article 428 of the RSFSR Code of Criminal Procedure of the RSFSR was included in the Methodological Instructions of the USSR Prosecutor’s Office on verification of supervised criminal cases in connection with complaints and in Decree No. 4/194 ‘On Deficiencies in the Work of Criminal Inspection Supervisory Affairs’2 of the USSR Deputy Prosecutor General as of July 28, 1953. Thus, in the Soviet period, separate disparate forms of procedural documents were approved by departmental normative acts. However, neither a systematized pool of forms was developed nor inclusion of such forms in the law or appendices to the law was practiced. Therefore, the production of a document without the use of a form, even in those cases when such forms existed, was not regarded as a violation of law.
Departmental forms of investigative and other procedural actions and even some decisions were widely used throughout the Soviet period [60, p. 411]. For example, there was a sustainable practice of using forms when filing a charge: an oral explanation to the accused person of the rights established by Article 46 of the RSFSR Criminal
1 Working Court. 1923. No. 3-4. Pp. 42-43.
Soviet Justice Weekly. 1928. No. 20. Pp. 606-614.
Procedure Code of 19603 was accompanied by the decision on indictment printed in the form of a letterhead with the content of this article, after which both the accused person and the investigator certified the fact of clarification of these rights with their signatures [56, pp. 169-170].
The use of disparate forms produced by various departments was developed in the RF Criminal Procedure Code4 with procedural document samples made in the form of 123 Annexes to the RF Criminal Procedure Code. Such samples were introduced due to objective circumstances. The new procedural actions and decisions reasonably required the legally established method of their production: ‘the annexes mainly included the samples of new procedural documents or those procedural documents that were significantly altered due to the adoption of the new Criminal Procedure Code’ [26, pp. 815-816].
Non-compliance of a procedural act with the form, structure and content of the form was now equated to the departure from law requirements and could lead to the recognition of evidence as unacceptable.
As soon as the RF Criminal Procedure Code was adopted, it was monitored by the State Duma Committee on Legislation in conjunction with the RF Presidential Executive Office Administration. Following this monitoring, it became clear that the inclusion of procedural document samples in the Criminal Procedure Code was not only justified but also required even more exact details and completeness. Federal Law No. 92-FZ as of July 4, 20035 introduced the sixth part of the ‘Procedural Document Forms’ in the Criminal Procedure Code, which included Article 474 and 475 determining the general rules for the application of procedural document forms and Article 476 and 477
ствовал при смерти покойного, какие наблюдались предсмертные болезненные явления, страдал ли умерший в последнее время какими-либо болезнями, какими именно, сколько времени, обращался ли за помощью к врачу и к какому, кто сообщил указанные сведения о состоянии здоровья, имелись ли подозрения в насильственной смерти покойного, кем высказаны эти подозрения и на чем они основаны, имелись ли указания на какое либо другое преступное деяние и на какое именно, имелись ли на трупе какие-либо повреждения, похожие на следы насилия, нанесенного чужой рукой1. Циркуляр народного комиссариата юстиции РСФСР краевым, областным и губернским судам и прокурорам от 17 апреля 1928 года № 75 «О введении в действие соглашения НКПТ СССР и НКЮ РСФСР о порядке пересылки и доставки судебных повесток и извещений»2 содержал формы таких повесток и извещений. Примерный текст постановления, выносимого прокурором в порядке статьи 428 УПК РСФСР 1923 года, содержался в Методических указаниях Прокуратуры СССР о проверке в порядке надзора уголовных дел, истребованных в связи с жалобами, и в указании Заместителя Генерального Прокурора СССР от 28 июля 1953 года № 4/194 «О недостатках в работе по проверке уголовных дел в порядке надзора»3. Таким образом, в советский период отдельные разрозненные бланки процессуальных документов утверждались ведомственными нормативными актами. Практика разработки систематизированного банка бланков и включения их в текст закона либо в качестве приложения к закону отсутствовала. Поэтому изготовление документа без использования бланка даже в тех случаях, когда таковые существовали, само по себе не расценивалось как нарушение закона.
Ведомственные бланки следственных и других процессуальных действий и даже некоторых решений широко применялись на протяжении всего советского периода [60, с. 411]. Например, сложилась устойчивая практика использования бланков при предъявлении обвинения: устное разъяснение обвиняемому прав, предусмотренных ст. 46 УПК РСФСР 1960 го- да4, сопровождалось воспроизведением под текстом постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого на типографском бланке содержания этой статьи, и обвиняемый, а также следователь своими подписями удостоверяли факт разъяснения этих прав [56, с. 169-170].
Опыт использования разрозненных бланков, изготовленных различными ведомствами, получил развитие в УПК РФ5, отличительной чертой которого являлось наличие образцов процессуальных документов в виде 123 приложений к УПК РФ. Введение таких образцов было продиктовано объективными обстоятельствами - появление новых процессуальных действий, решений объективно требовало обеспечить законность их производства: «в приложения были включены в основном образцы новых процессуальных документов либо тех процессуальных документов, которые претерпели значительные изменения в связи с принятием нового УПК» [26, с. 815-816].
Несоответствие процессуального акта форме, структуре и содержанию бланка теперь приравнивалось к отступлению от требований закона и могло повлечь признание доказательства недопустимым.
После введения в действие УПК РФ в ходе его мониторинга, проводившегося Комитетом Государственной Думы по законодательству совместно с Администрацией Президента Российской Федерации, стало очевидно, что включение в УПК образцов процессуальных документов не только оправдано, но и требует еще большей определенности и полноты. Федеральным законом от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ6 в УПК РФ была введена шестая часть «Бланки процессуальных документов», в которую вошли ст. 474 и 475, определявшие общие правила применения бланков процессуальных документов, и статьи 476 и 477, содержавшие пере- containing a list of those for pre-trial and court proceedings.
It is interesting to note that Part 2 of Article 474 of the RF Criminal Procedure Code indicated that procedural document forms could be made by typographic, electronic or other means. However, this only related to procedural document forms, not to procedural documents. The electronic method was understood as ‘production of a form as electronic digital information using computer technology or taken from the database with the following reproduction using a printer. It is also possible to transfer forms in electronic form via e-mail (communication system between computers). E-mail allows users to exchange data between computers, analyze, process, and store inbox and outbox messages’ [26, p. 817].
The scientific studies identified imperfection in the production of forms as some of them did not fully reflect the requirements of law. The systematization of forms and the proportion of main and interlinear texts were defective, as well. In addition, for some of actions and decisions, forms were not even provided [14, pp. 35-44; 18, p. 101; 19, pp. 44-45; 31, p. 29; 54, p. 53; 63, pp. 41-42]. Nevertheless, the introduction of procedural document forms in a legally established manner was of great importance for the development of the theory, law, and practice of electronic criminal case.
However, such procedural document forms were not in use for a long time as they were completely excluded from the Criminal Procedure Code in 20071. Neither the explanatory note nor the conclusion report for the bill on the removal of the forms gave evidence on the reasons for such a decision. One can only assume whether this was caused by a permanent need to improve and adjust forms, which resulted in frequent changes in the Criminal Procedure Code, or there were other reasons.
This does not mean that the procedural form of criminal proceedings was changed. It still remains written, especially in its pre-trial part which has to be recorded on paper (electronic) medium. The completed procedural document is to be complied with the requirements of the RF Criminal Procedure Code with regard to both the content and form of the procedural document. A huge number of amendments and additions made to the RF Criminal Procedure Code required changes and introduction of new forms of procedural documents. Obviously, this is the reason for their removal.
Electronic Criminal Case and Its Significance for the Legitimacy of Criminal Proceedings
Meanwhile, the use of forms remains significant for the modern law enforcement practice. Despite a high educational level of judges, prosecutors, lawyers, investigators (especially in comparison to the first decades of the Soviet period), a decreased level of procedural document quality can be observed after the removal of forms from the RF Criminal Procedure Code [1, p. 35; 38, p. 9].
Nowadays, the development of digital technologies and their implementation in criminal proceedings help not only optimize criminal procedure activities at a whole new level but also create additional guarantees of compliance with the criminal procedure form. While ‘digital (computer) justice’ [13, pp. 95-104; 61, pp. 118-120; 68, pp. 265-274], especially in terms of decision-making with the use of artificial intelligence, and various aspects of the use of digital evidence [66, pp. 151-160; 67, pp. 416-420] are still under doctrinal investigations, it is already possible to make significant transformation of procedural documents (decisions, minutes, etc., as well as various petitions of participants not empowered with authority) drafted by the preliminary investigation bodies, prosecutor, and court.
Currently, the Criminal Procedure Code does not provide for the possibility of conducting a criminal case in electronic format but contains an ‘electronic document’ term and mentions it in various aspects.
чень таковых для досудебного и судебного производства.
Интересно заметить, что уже тогда в части 2 статьи 474 УПК РФ указывалось, что процессуальные бланки могут быть выполнены типографским, электронным или иным способом. Но именно бланки, а не процессуальные документы. Под электронным способом понималось «изготовление бланка в виде электронноцифровой информации, выполненной с помощью средств вычислительной техники или взятой из информационной базы, с последующим воспроизведением с помощью принтера. Также возможен способ передачи бланков в электронном виде с помощью электронной почты (системы связи между ЭВМ). Электронная почта позволяет осуществлять обмен данными между ЭВМ, анализ, обработку и хранение полученных и отправленных сообщений» [26, с. 817].
В научных исследованиях отмечалось несовершенство бланков: некоторые из них не в полной мере отражали требования закона, вызывали нарекания их систематизация, соотношение основного и подстрочного текста, для части действий и решений бланки и вовсе отсутствовали [14, с. 35-44; 18, с. 101; 19, с. 44-45; 31, с. 29; 54, с. 53; 63, с. 41-42]. Тем не менее опыт процессуальных бланков, установленных законом, имел и имеет огромное значение для развития теории, законодательства и практики электронного уголовного дела.
Этот опыт оказался недолгим: в 2007 году бланки были полностью исключены из текста УПК РФ1. Причем ни в пояснительной записке, ни в заключениях на законопроект об упразднении бланков не указывались причины такого решения. Остается лишь предполагать: было ли это следствием перманентной необходимости совершенствования и дополнения бланков, что вызывало потребность внесения частых изменений УПК РФ, или тому были иные причины.
Это не означает, что изменилась процессуальная форма уголовного судопроизводства. Она по-прежнему осталась письменной, особенно в его досудебной части, требующей фик- сации на бумажном (электронном) носителе. Составленный процессуальный документ должен соответствовать требованиям УПК РФ, предъявляемым как к содержанию, так и форме процессуально документа. Огромное количество внесенных в УПК РФ изменений и дополнений требовало внесения изменений и введения новых бланков процессуальных документов. Очевидно, именно поэтому от них решили отказаться.
Электронное уголовное дело и его значение для обеспечения законности уголовного судопроизводства
Ценность бланков для современной правоприменительной практики, между тем, сохраняется. Несмотря на бесспорно высокий образовательный уровень судей, прокуроров, адвокатов, следователей (особенно по сравнению с первыми десятилетиями советского периода), после исключения бланков из текста УПК РФ наблюдается снижение качества составления процессуальных документов [1, с. 35; 38, с. 9].
В наши дни развитие цифровых технологий и их внедрение в уголовное судопроизводство позволяет не только оптимизировать уголовно-процессуальную деятельность на качественно новом уровне, но и создать дополнительные гарантии соблюдения уголовнопроцессуальной формы. Если «цифровое (компьютерное) правосудие» [13, с. 95-104; 61, с. 118-120; 68, рр. 265-274], особенно в части принятия решений с использованием искусственного интеллекта, а также различные аспекты использования цифровых доказательств [66, рр. 151-160; 67, рр. 416-420], пока находятся в плоскости доктринальных исследований, то возможность существенной трансформации составления процессуальных документов органами предварительного расследования, прокурором и судом, будь то решения, протоколы процессуальных действий или иные акты, а равно различных обращений участников, не наделенных властными полномочиями, имеется уже сегодня.
В настоящее время УПК РФ не предусматривает возможность ведения уголовного дела в электронном формате, но содержит термин «электронный документ», используя его фрагментарно в различных аспектах.
In this context, it makes sense to support the opinion of L. G. Khaliulina who believes that the current reason for the absence of integral system of electronic document management and electronic form of procedural documents consists in its fragmentary legitimization in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation [58, p. 76].
In accordance with the RF Criminal Procedure Code:
-
- procedural documents can be executed electronically (Part 2 of Article 474);
-
- information on electronic media can be regarded as an appendix to the minutes of investigative actions (Part 8 of Article 166);
-
- it is possible to use photos, audio and video recordings, and other technical means (Articles 106, 186, 189);
-
- electronic documents can be used as material evidence (Part 4, p. 81);
-
- by a court decision, the investigator may examine and seize electronic messages or messages transmitted via telecommunication networks (Part 7 of Article 185);
-
- an execution writ together with a copy of court decision, as well as court rulings and orders, can be sent for execution by the court to the bailiff in the form of an electronic document signed by reinforced qualified signature as established by the legislation of the Russian Federation (Part 2 of Article 393);
-
- a victim or their legal representative may obtain information of certain kind on electronic media (Part 5.1 of Article 42).
On January 1, 2017, the amendments to the RF Criminal Procedure Code came into effect. The amendments regulate the electronic interaction between courts and interested parties: by Federal Law No. 22-FZ as of June 23, 2016, Article 474.1 regulating the use of electronic documents in criminal proceedings was incorporated in the RF Criminal Procedure Code1.
These provisions correspond to the currently existing Federal State Program ‘Information Society (2011-2020)’ aimed primarily at the electronic interaction between public authorities among themselves and with citizens (or organizations) when the latter exercise their rights through specialized information systems or multifunctional centers.
It is planned to further develop the use of Internet technologies in the Russian criminal proceedings. The Presidium of the Government Commission on the Digital Development, Use of Information Technologies to Improve the Life Quality and Business Conditions as of February 4, 2019 identified 25 priority life situations for which super services would be launched by 2021. These are digital public services, including online super services for applying for law enforcement authorities and Internet services for digital enforcement and justice [37].
However, these are only the first steps in the introduction of an electronic criminal case, which involves the replacement of paper workflow with electronic and drawing up of all or most of the acts online in a pre-arranged and approved form with necessary fields to be filled in. Only this form, and not a set of scanned documents, as suggested by Yu. N. Poznansky [41, p. 43] О. V. Kachalova, Yu. A. Tsvetkov [24, p. 98], is used in several states [40, p. 85]. It has many advantages: being developed in accordance with all the legal requirements and with regard to the shortcomings of procedural documents identified during their use, this form will ensure the legitimacy of the prepared procedural acts.
As an example, we can provide a duty of officials responsible for criminal proceedings to explain to the suspected person, accused person, witness, victim, and other participants the right not to testify against themselves, their spouse, and close relatives guaranteed by the relevant norms of the RF Criminal Procedure Code. When clarifying Ar-
Следует поддержать мнение Л. Г. Халиул-линой, которая считает, что говорить о существовании целостной системы электронного документооборота либо о существовании электронной формы процессуальных документов в настоящее время не представляется возможным по причине их фрагментарной легитимизации в УПК РФ [58, с. 76].
В УПК РФ упоминается о том, что:
-
- процессуальные документы могут быть выполнены электронным способом (ч. 2 ст. 474);
-
- приложением к протоколу следственного действия может выступать информация на электронных носителях (ч. 8 ст. 166);
-
- применяются фотографирование, аудио-и видеозапись и иные технические средства (ст. 106, 186, 189);
-
- в качестве вещественных доказательств могут выступать документы на электронных носителях (ч. 4 с. 81);
-
- следователем по решению суда могут быть проведены осмотр и выемка электронных сообщений или передаваемых по сетям электросвязи сообщений (ч. 7 ст. 185);
-
- исполнительный лист вместе с копией приговора, определения, постановления суда может направляться судом для исполнения судебному приставу-исполнителю в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ч. 2 ст. 393);
-
- возможно получение потерпевшим или его законным представителем отдельных видов информации на электронных носителях (ч. 5.1 ст. 42).
С 1 января 2017 года вступили в силу дополнения в УПК РФ, регламентирующие, по сути, электронное взаимодействие судов и заинтересованных лиц: Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 220-ФЗ в УПК РФ ввел статью 474.1, регулирующая порядок использования электронных документов в уголовном судопроизводстве применительно к суду1.
Указанные положения корреспондируют действующей в настоящее время Федеральной государственной программе (ФГП) «Информационное общество (2011-2020 годы)», направленной, прежде всего, на электронное взаимодействие государственных органов между собой и с гражданами или организациями при обеспечении и реализации их прав через отраслевые информационные системы или многофункциональные центры.
Планируется дальнейшее развитие применения интернет-технологий в российском уголовном судопроизводстве. Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля 2019 года определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых к 2021 году будут созданы суперсервисы - комплексы цифровых госуслуг, в том числе суперсервисы для подачи заявлений в правоохранительные органы онлайн, для цифрового исполнительного производства и осуществления правосудия с использованием интернет-сервисов [37].
Однако это лишь первые шаги в направлении введения электронного уголовного дела, которое предполагает замену бумажного документооборота электронным, при котором все или большая часть актов составляются в режиме онлайн в заранее разработанной и утвержденной форме, предполагающей заполнение необходимых полей. Только такая форма, а отнюдь не совокупность отсканированных документов, как это предлагается Ю. Н. Познанским [41, с. 43], О. В. Качаловой, Ю. А. Цветковым [24, с. 98], и применяется в отдельных государствах [40, с. 85]. Она имеет множество преимуществ: будучи разработанной в соответствии со всеми требованиями закона и с учетом выявленных практикой недостатков процессуальных документов, такая форма обеспечит законность составляемых процессуальных актов.
В качестве примера приведем обязанность должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, разъяснять подозреваемому, обвиняемому, свидетелю, потерпевшему и другим участникам право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, гарантированное соответствующими нормами УПК РФ. При разъяснении tide 51 of the Constitution1 to the indicated persons, it is not enough for the relevant minutes (no matter whether the minutes were executed by hand or by technical means) to contain solely a note on the fulfillment of this requirement without disclosing the essence of this constitutional norm. It cannot be excluded that there was a proposal to put a signature in the corresponding column without stating the constitutional provision on witness immunity, or in the case of law enforcer’s bad-faith actions, this rule was explained in a distorted manner whatsoever. The inclusion of Article 51 of the Constitution2 in the online electronic form of the interrogation report would eliminate such unlawful practice, protect the rights of interrogated persons, and ensure validity of the evidence obtained: as it is known, a failure to comply with this requirement leads to invalidity of the testimony of the above indicated persons.3
This goal can be achieved only if the electronic criminal case contains forms that meet all the legal requirements. The experience of introducing procedural document forms at the legislative level in unstable conditions of the criminal procedural legislation and their subsequent removal from the RF Criminal Procedure Code requires a systematic understanding of the need to firstly create algorithms for criminal proceedings, legislation stability, certainty and simplicity of legal regulation, as only on this basis it is possible to make a transition to an electronic criminal case. It is very important to draw up electronic forms that would meet the requirements of the RF Criminal Procedure Code and contain procedural guarantees to protect the rights and legal interests of participants in criminal proceedings. It is also significant to predict all risks and ensure that unlawful actions are not permitted by procedural guarantees. The development of forms, as described above, is of great importance for the legitimacy of production.
It requires examination and consideration of the foreign experience: an electronic criminal case and a single digital platform of public authorities and other participants in criminal proceedings are already widely and successfully used in a number of foreign countries (in Australia, Kazakhstan, Saudi Arabia, Singapore, Turkey, Estonia, and others).
For example, according to the Criminal Procedure Code of the Republic of Estonia,4 a criminal case may be conducted in whole or in part using an electronic digital form (Article 160.1), and in the future it is planned to switch to the mandatory electronic digital case in full: from submission of a statement of criminal case to the execution proceedings. If a case is fully performed in electronic digital form, paper documents are scanned and recorded in the e-toimik system in the section for appropriate production. Electronic digital applications, complaints, and other documents are submitted through this system. In this case, it is necessary to fill in a number of fields proposed by the system that requires the indication of all the necessary document details, ticking of the box explaining criminal liability for deliberately misleading denunciation (in case of a crime report), which ensures the compliance of the document form with the legal requirements. While non-professional participants can select the method (traditional or electronic) of submitting documents to the preliminary investigation bodies and the court, all professional participants (for example, lawyers, state bodies, or local authorities) submit applications, указанным лицам содержания статьи 51 Конституции1 недостаточно, чтобы в соответствующем протоколе (не имеет значения, выполнен ли протокол рукописно или с помощью технических средств) содержалась лишь отметка о выполнении этого требования без раскрытия текста конституционной нормы: нельзя исключить, что было предложено поставить подпись в соответствующей графе без изложения конституционного положения о свидетельском иммунитете либо, в случае недобросовестных действий правоприменителя, и вовсе было разъяснено искаженное содержание этой нормы. Включение в заполняемый в режиме онлайн электронный бланк протокола допроса текста статьи 51 Конституции позволит исключить подобную неправомерную практику, защитить права допрашиваемых лиц и обеспечить допустимость полученных доказательств: как известно, невыполнение этого требования влечет недопустимость показаний указанных лиц2.
Достижение этой цели возможно, если только электронное уголовное дело будет содержать бланки, соответствующие всем требованиям законодательства. Опыт введения бланков процессуальных документов на законодательном уровне в условиях нестабильного состояния уголовно-процессуального законодательства и вследствие этого последующее их исключение из УПК РФ требуют системного понимания необходимости сначала создания алгоритмов уголовного судопроизводства, стабильности законодательства, конкретности и простоты правового регулирования; именно на этой основе необходимо осуществлять переход к электронному делу. Большое значение имеет создание электронных бланков (электронных форм), соответствующих требованиям УПК РФ и содержащих процессуальные гарантии защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Важно предусмот-
-
1 Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.
О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия [Электронный ресурс]: постановление Пленума ВС РФ от 31 окт. 1995 г. № 8 (в ред. от 03.03.2015). Пункт 18. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
реть все риски и обеспечить их недопущение процессуальными гарантиями. С этих позиций разработка самих форм имеет огромное значение для обеспечения законности производства.
При их разработке следует изучить и учесть зарубежный опыт: электронное уголовное дело и единая цифровая платформа, объединяющая государственные органы и других участников уголовного судопроизводства, уже достаточно широко и успешно применяются в ряде зарубежных государств (в Австралии, Казахстане, Саудовской Аравии, Сингапуре, Турции, Эстонии и др.).
Так, Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской Республики3 предусматривает, что судебное уголовное дело может вестись полностью или частично в электронно-цифровой форме (ст. 160.1), причем в перспективе предполагается переход на обязательное ведение электронно-цифрового судебного дела и в полном объеме: от заявления о возбуждении уголовного дела до исполнительного производства. Если дело ведется в электронно-цифровой форме полностью, то те документы, которые существуют на бумажном носителе, сканируются и записываются в системе электронного дела «е-toimik» в разделе для соответствующего производства. Через эту систему подаются электронно-цифровые ходатайства, жалобы и иные документы. При этом необходимо заполнить ряд предлагаемых системой полей, требующих от заявителя указать все необходимые реквизиты документа, поставить галочку под разъяснением об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (в случае обращения с заявлением о преступлении), что обеспечивает соответствие формы документа требованиям законодательства. Если непрофессиональные участники могут выбирать способ подачи документов в органы предварительного расследования и в суд (традиционный или электронный), то все профессиональные участники (например, адвокаты, государственные органы или органы местного самоуправления) подают заявления, жалобы и иные документы лицу, ве- complaints, and other documents to the person conducting proceedings only by electronic means. The court immediately provides the parties with access to all procedural documents in the ‘e-toimik’ electronic case system. Digital photographs, sound or video recordings of a court session made in digital form with copies provided to the parties for a fee represent an integral part of the e-toimik system. This system can be used to send electronic subpoenas (as an option for notifying participants) and it is also used when permitting requests on corrections to the minutes of a court session, when making decisions on determining the amount of remuneration for the defense attorney and the amount of costs reimbursement, etc.
Article 8.1 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Lithuania1 also provides for the conduct of criminal cases in electronic form and the use of the Integrated system of criminal procedure information of the pre-trial investigation institutions, prosecutors, and court during the pre-trial investigations.
Article 35 of the Criminal Procedure Code of Ukraine contains the provision on the Unified Judicial Information and Telecommunication System, which ensures, in particular: an objective and impartial distribution of criminal proceedings between judges in compliance with the principles of sequence and the equal number of proceedings for each judge; the determination of jurors for a court proceeding from the list of jurors; providing the individuals and legal entities with information on the status of criminal proceedings; registration of incoming and outgoing correspondence and the stages of its movement; conducting legal proceeding during a court session in a video conference mode.2
Certain elements of the electronic criminal case are provided for by the Judicial Procedure Act of the Kingdom of Sweden (Article 8, Chapter 30)3, which admits preparing of a sentence in electronic form and signing by electronic signature in accordance with Article 3 of Regulation No. 910/2014 of the European Parliament and the Council of the European Union4.
Similarly, an electronic criminal case in Russia is to be conducted within a single digital platform, which would include a system for submitting electronic applications, including reports of crime. It is worth using other states’ experience in developing such a system.
Countries differ in their approaches to the necessity and methods of identifying a person submitting a crime report. In some states, mandatory identification of an applicant is required. For instance, in the Republic of Estonia, when entering the e-toimik system, any submission of such a kind requires the use of an ID card or mobiil-ID - personal identification via mobile phone. In the Republic of Kazakhstan, an applicant should sign a request (electronic document) by electronic digital signature, which is issued free of charge to everyone, or, in the absence of such a signature, via SMS notification [34, p. 15]. This method is used for any requests, including comments to the court records, request for reopening the time to file an appeal (private complaint), objections to appeals (private complaints), and to the prosecutor’s appeal, petitions, protests, representations on the revision of effective legal acts, etc. (Articles 348, 348-1, 419, 420, 488, etc. of the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan5).
дущему производство, только электронным способом. Суд незамедлительно предоставляет сторонам доступ в системе электронного дела «е-toimik» ко всем процессуальным документам судопроизводства. Составной частью «е-toimik» являются цифровые фотографии, звуко- или видеозапись судебного заседания в цифровом виде, копии которых могут предоставляться сторонам за плату. Через указанную систему могут рассылаться электронные повестки (в качестве одного из вариантов извещения участников), она используется при разрешении ходатайств о внесении исправлений в протокол судебного заседания, при вынесении решений об определении размера оплаты труда защитника, участвующего по назначению, и объема возмещения издержек и т. д.
Ведение уголовных дел в электронной форме и использование Интегрированной системы уголовно-процессуальной информации учреждений досудебного следствия, прокуратуры и суда в ходе досудебного следствия предусмотрены статьей 8.1 УПК Литовской Республики1.
УПК Украины в статье 35 закрепляет положение о функционировании Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, обеспечивающей, в частности, объективное и беспристрастное распределение материалов уголовного производства между судьями с соблюдением принципов очередности и одинакового количества производств для каждого судьи, определение присяжных для судебного разбирательства из числа лиц, внесенных в список присяжных, предоставление физическим и юридическим лицам информации о состоянии рассмотрения материалов уголовного производства, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции и этапов ее движения, ведение судебного процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции2.
Отдельные элементы электронного уголовного дела предусмотрены законом Королев-
-
1 Уголовно-процессуальный кодекс Литовской Республики от 14 марта 2002 г. № IX-785 (идентификационный код 1021010ISTA00IX-785 (в ред. от 27.06.2019) // Реестр законодательных актов Литовской Республики. URL: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC588C321777/ UNqWwsXDMa (дата обращения: 20.08.2019).
Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. № 4651-VI (в ред. от 18.10.2018 г.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Континент».
ства Швеции «О судебной процедуре»3, статья 8 главы 30 которого допускает составление приговора в электронном виде и подписание электронной подписью, в соответствии со статьей 3 Регламента № 910/2014 Европейского парламента и Совета Европейского Союза4.
Как и в других государствах, в России электронное уголовное дело должно существовать в рамках единой цифровой платформы, в которую интегрирована и система подачи электронных обращений, в том числе сообщений о преступлении. При разработке подобной системы полезен будет опыт государств, уже внедривших такие системы.
В разных странах различаются подходы к способам идентификации лица, обращающегося с заявлением о преступлении. В одних государствах требуется обязательная идентификация заявителя. Так, в Эстонской Республике любое обращение предполагает вход лица в систему e-toimik с помощью ID-карты или mobiil-ID - идентификации личности через мобильный телефон. В Республике Казахстан заявитель должен подписать обращение (электронный документ) электронной цифровой подписью, которая бесплатно выдается всем желающим, либо, при отсутствии таковой, посредством СМС-информирования [34, с. 15]. Таким образом подаются любые обращения, включая замечания на протокол судебного разбирательства, ходатайство о восстановлении срока на подачу апелляционных (частной) жалобы, возражения на апелляционные (частные) жалобы и на апелляционное ходатайство прокурора, ходатайства, протесты, представления о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов и т. д. (ст. 348, 348-1, 419, 420, 488 и др. УПК Республики Казахстан5).
Other states’ legislation admits anonymous requests, including those made in electronic form, or seeks for the possibility to provide this option. For example, in Saudi Arabia anonymous requests to the police are allowed in the form of electronic complaints made through the Internet applications, as it is believed that more crimes can be identified by processing requests of people who prefer to conceal their identities because of possible risks or dangers [69, pp. 5-8]. At the same time, anonymous requests significantly complicate processing of the information received, making it impossible to warn an applicant against criminal liability for deliberately misleading denunciation and receive an explanation from them. These problems can also be solved with the use of digital technologies, namely, through the introduction of cloud-based online crime reporting schemes, which would combine digital certificates, symmetric keys, asymmetric keys, and digital signatures. On the one hand, this ensures anonymity of a person and, on the other hand, makes it possible to identify an applicant [70, p. 255] in cases established by law and only within certain limits.
At the same time, in all cases, an electronic request to law enforcement bodies or to the court, both with a crime report and within an existing criminal case, requires completion of the necessary fields accompanied by explanations, examples, and references to legal norms, which are jointly used to ensure the procedural form of procedural documents.
Within this context, it is worth mentioning an article by V. Samolin who calls for the removal of sample statements of case and other procedural documents from the court information stands, since their use by unprofessional participants results in the following: decrease in the number of requests for qualified legal assistance; decrease in the quality of submitted documents, which take the form of ‘reflections on legal relations rather than claims drawn up in accordance with law’; increased court procedural activity on collecting evidence; the possibility that the rights and interests of individual participants may appear to be unprotected under the adversarial process [48, p. 32].
An error of such reasoning consists in the fact that the state’s objective is to ensure full access to justice. The mechanism should include both qualified legal assistance and wide opportunities for participants to independently protect their rights. These elements should not be mutually exclusive but should complement each other effectively. For that reason, the classical system of providing the accused person with the right to defense includes three elements: 1) a set of the accused person’s rights to defense against the prosecution; 2) the right to have a defense counsel (and the entire set of legal provisions related to the participation of a defense counsel in criminal proceedings: the moment from which it is provided, execution of defense on the instructions of the court, investigator, interrogating officer and by agreement with the accused person, cases of mandatory participation of a defense counsel, prohibition of the defender’s refusal to assume the defense obligations, etc.); 3) the obligation of the public authorities and officials conducting criminal proceedings, which corresponds to the above rights, to explain these rights to the accused person and ensure the possibility of their implementation.
An electronic criminal case will help the participants in the criminal case receive access to justice and comply with the procedural form at a new level. Forms of procedural documents should be accompanied not only by explanations and examples but also by hyperlinks to legislation and judicial practice. Moreover, there should be an opportunity not only to follow the links with certain legal norms or extracts from court decisions but also to switch to the SAS ‘Pravosudie’, reference and legal systems [8, p. 20].
If online forms are completed by a person who does not have a command of the language of proceedings, or their command of language is insufficient, such a person is to be provided with free translation assistance, including remote translation [11, p. 282].
The implementation of these technologies becomes especially significant when preparing applications for non-professional participants, which are the most difficult as the law imposes specific requirements to their form and content. In Russia, this is a criminal complaint by private person, an
В других государствах допускаются анонимные обращения, в том числе в электронной форме, либо ведется поиск обеспечения этой возможности. Например, в Саудовской Аравии разрешены анонимные обращения в полицию с электронными жалобами через интернет-приложения, поскольку считается, что это позволяет выявлять больше преступлений за счет обращений лиц, которые желают скрыть личность из-за возможных рисков или опасности [69, рр. 5-8]. Вместе с тем анонимные обращения существенно затрудняют работу с полученной информацией, делают невозможным предупреждение заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, не позволяют получить у него объяснения. Указанные проблемы могут быть преодолены также с помощью цифровых технологий, а именно посредством внедрения разрабатываемых схем онлайновой отчетности о преступлениях, основанных на облачной технологии, которая сочетает в себе цифровые сертификаты, симметричные ключи, асимметричные ключи и цифровые подписи. Это позволяет, с одной стороны, обеспечить лицу анонимность, а с другой -в установленных законом случаях и только в определенных пределах - идентифицировать заявителя [70, р. 255].
При этом во всех случаях электронное обращение в правоохранительные органы или в суд как с заявлением о преступлении, так и в рамках существующего уголовного дела требует заполнения заранее заданных полей, сопровождающихся разъяснениями, примерами, ссылками на правовые нормы, что в совокупности служит обеспечению процессуальной формы процессуальных документов.
В этой связи вспоминается статья В. Само-лина, где автор призывал удалить с информационных стендов судов образцы исковых заявлений и других процессуальных документов, поскольку в результате их использования непрофессиональные участники реже обращаются за квалифицированной юридической помощью, снижается качество подаваемых документов, трансформирующихся в «размышления по поводу состоявшихся правоотношений, а не заявления, составленные в соответствии с законом», повышается вынужденная процессуальная активность суда по собиранию доказательств, а в условиях состязательного процесса права и интересы отдельных участников могут оказаться незащищенными [48, с. 32].
Ошибка таких рассуждений заключается в том, что задачей государства является всемерное обеспечение доступа к правосудию. Механизм обеспечения должен одновременно включать и квалифицированную юридическую помощь, и предоставление широких возможностей по самостоятельной защите участниками своих прав. Эти компоненты должны не исключать друг друга, а эффективно дополнять. Не случайно классическая триада обеспечения права обвиняемого на защиту включает три элемента: 1) совокупность прав обвиняемого по защите от обвинения; 2) право иметь защитника (и весь комплекс правовых положений, связанных с участием защитника в производстве по уголовному дела, осуществление защиты по назначению суда, следователя, дознавателя и по соглашению с обвиняемым, случаи обязательного участия защитника, запрет отказа защитника от принятой на себя защиты и т. д.); 3) корреспондирующая указанным правам обязанность государственных органов и должностных лиц, ведущих уголовное судопроизводство, разъяснить их обвиняемому и обеспечить возможность их реализации.
Электронное уголовное дело позволит на новом уровне обеспечить доступ к правосудию и соблюдение процессуальной формы участниками. Формы процессуальных документов должны сопровождаться не только разъяснениями, примерами, но и гиперссылками на законодательство и судебную практику. Причем должна существовать возможность не просто открытия отдельных правовых норм или извлечений из судебных решений, но и перехода в ГАС «Правосудие», справочно-правовые системы [8, с. 20].
При заполнении бланков онлайн лицам, не владеющим языком судопроизводства, либо владеющим им в недостаточной степени, должна обеспечиваться бесплатная помощь переводчика, в том числе дистанционная [11, с. 282].
Внедрение указанных технологий приобретает особую значимость при составлении наиболее сложных для непрофессиональных участников обращений, к форме и содержанию которых закон предъявляет жесткие требования. Применительно к России - это заявление о возбуждении уголовного дела частного обви- appeal, cassation, and supervisory complaint. The use of an electronic form accompanied by various useful materials help comply with these requirements, minimize the number of returns of such applications to the applicant for error elimination, and speed up the adoption of decisions.
Despite the advantages of criminal proceeding digitalization, for a long term perspective it is necessary to retain the option for non-professional participants (accused person, victim, etc.) to select a traditional (on paper) or electronic form of appeal to the law enforcement bodies and court, whether it is a crime report, petition, or complaint within an existing criminal case. This will ensure the rights of participants with different levels of computer literacy and various technical capabilities.
Today’s problem of electronic documents is the need to identify an intent of the person who opts to use electronic forms (in order to identify the person). A digital signature (a specific mathematical algorithm) allows us to solve this problem, which is of both legal and social significance. However, few Russians have a digital signature, which impedes the electronic interaction between public authorities and interested parties in the field of criminal proceedings.
Online electronic documents with prearranged fields will ensure legitimacy and eliminate a number of mistakes in the law enforcement practice when drawing up procedural documents by professional participants, including while decision-making. For example, the introduction of a ‘penalty calculator’ in the electronic criminal case will not allow the court to impose a more severe punishment than is provided for by the corresponding article of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation.
However, to ensure complete fulfillment of these goals and to facilitate the compliance by all participants with the procedural form in the preparation of applications, petitions, complaints, minutes, decisions, it is necessary to thoroughly de velop their form, which may require the involvement of scientists and practitioners, based on the analysis of the legal requirements and large-scale generalization of law enforcement practice, expert assessment of draft procedural acts, their preliminary experimental approbation.
The need for extensive preparatory work is evidenced by all previous experience of processing samples and forms of procedural documents. Unsurprisingly, almost all collected samples of criminal procedure acts published in previous years, as well as forms of documents included in the RF Criminal Procedure Code, were criticized for the lack of necessary references to the legislation, inconsistency with the requirements of the law, etc. Moreover, these imperfections negatively affected the law enforcement practice [25, p. 81].
Compliance with the procedural form by officials would be facilitated not only by the introduction of an electronic criminal case system, using a single digital platform, but also by the launch of a digital information system for investigative measures, as prescribed, for example, by Article 126.17 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Estonia. This is important for the legitimacy of both the investigative activity and criminal proceedings when the obtained results are presented to the preliminary investigation bodies or to the court in order to ensure that this information can be used as evidence.
Thus, to a certain extent an electronic document can be considered as a successor of the previous forms of procedural documents which contains their advantages and develops them. It ensures compliance of all participants with the established law of procedural form, introduction of additional guarantees of the legitimacy principles, reasonable term of criminal proceedings, access to justice, competitiveness of parties, right to appeal. The difference is that the electronic document is not just a simple procedural form but an electronically generated procedural form.
нения, апелляционная, кассационная, надзорная жалоба. Наличие электронного бланка с различными материалами, помогающими заявителю при его заполнении, способно обеспечить соблюдение этих требований, минимизировать случаи возвращения указанных обращений заявителю для устранения замечаний, ускорить принятие по ним решений.
Несмотря на достоинства цифровизации уголовного судопроизводства, в перспективе для непрофессиональных участников (обвиняемого, потерпевшего и др.) должна сохраниться возможность выбирать традиционную (на бумажном носителе) или электронную форму обращения в правоохранительные органы и в суд, будь то заявление о преступлении или ходатайство, жалоба в рамках возбужденного уголовного дела. Это обеспечит участникам соблюдение их прав с учетом различного уровня компьютерной грамотности населения и различных технических возможностей.
Актуальной проблемой использования электронных документов является необходимость установления волеизъявления субъектов, от имени которых они поступают (с целью идентификации лица). Цифровая подпись (определенный математический алгоритм) позволяет решать эту задачу, имеющую как юридическое, так и социальное значение. Однако мало кто из россиян имеет цифровую подпись, что создает определенные препятствия для широкого распространения электронного взаимодействия государственных органов и заинтересованных лиц в сфере уголовного судопроизводства.
Необходимость составления электронных документов в режиме онлайн с заранее заданными полями будет служить соблюдению законности и при составлении процессуальных документов профессиональными участниками, в том числе при принятии решений, позволит исключить из правоприменительной практики ряд ошибок. Например, внедрение в электронное уголовное дело «калькулятора назначения наказания» не позволит суду назначить наказание более строгое, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
Однако, чтобы электронное уголовное дело действительно выполняло указанные задачи, способствовало соблюдению всеми участниками процессуальной формы при составлении заявлений, ходатайств, жалоб, протоколов, решений, необходима глубокая, тщательная разработка их формы с привлечением ученых и практиков, на основе анализа не только требований закона, но и масштабного обобщения правоприменительной практики, экспертной оценки подготовленных проектов процессуальных актов, их предварительной экспериментальной апробации.
О необходимости проведения большой подготовительной работы свидетельствует весь предшествующий опыт работы с образцами и бланками процессуальных документов. Не случайно практически все издававшиеся в прежние годы сборники образцов уголовно-процессуальных актов, а также включенные в УПК РФ формы документов подвергались критике за отсутствие необходимых ссылок на законодательство, несоответствие требованиям закона и др. Причем эти недостатки образцов и бланков вовсе не были безобидными, а оказывали негативное влияние на правоприменительную практику [25, с. 81].
Соблюдению процессуальной формы должностными лицами будет способствовать не только введение системы электронного уголовного дела на единой цифровой платформе, но и создание цифровой информационной системы для оперативно-розыскных мероприятий, как это предусмотрено, например, статьей 126.17 УПК Эстонской Республики. Это важно как для обеспечения законности самой оперативно-розыскной деятельности, так и для уголовного судопроизводства в случае представления полученных результатов в органы предварительного расследования или в суд с тем, чтобы обеспечить допустимость этих сведений в качестве доказательств.
Таким образом, электронный документ в определенной степени можно назвать преемником прежних бланков процессуальных документов, в котором сохраняются и развиваются их преимущества - обеспечение соблюдения всеми участниками установленной законом процессуальной формы, установление дополнительных гарантий принципов законности, разумного срока уголовного судопроизводства, обеспечение доступа к правосудию, состязательности сторон, права на обжалование. Разница в том, что электронный документ - это не просто разработанный процессуальный бланк, а процессуальный бланк, заполненный в режиме онлайн.
Electronic Criminal Case in the States of the Anglo-American and Continental Systems of Law and Prospects for the Development of Russian Criminal Proceedings
Despite the existing differences in criminal proceedings in the states of the Anglo-American and continental systems of law, the current development of the criminal process in different states is characterized by its harmonization and unification in some aspects. It reflects the international legal integration, which involves Russia among other countries [6, pp. 16-17]. International organizations play an important role in this process as they develop common standards for criminal proceedings, based primarily (but not only) on the protection of individual rights and freedoms [10, p. 19; 52, p. 12; 53, pp. 5-21].
Digitalization is considered to be an independent direction for the unification of the procedural form of criminal proceedings, which affects all states without exception, but the extent and nature of digitalization differ a lot primarily due to the technical and economic capabilities of a particular state.
The indicators for unevenness of this process are demonstrated by the fact that some countries continue using only traditional technical means, such as photographing of physical evidence, audio, video recording of procedural actions, electronic control tools during a house arrest, devices that change the voice of person under protection, etc., while others actively implement digitalization elements, primarily audio and video conferencing. The third group of states is characterized by ‘developed digitalization’, which includes the introduction of an electronic criminal case and single digital platform for public authorities and other participants in criminal proceedings. National legislation is highly variable in terms of combining specific elements of the criminal process digitalization and the use of electronic information. At the same time, some countries use unique standards, such as investigative actions in the form of a website audit (Cl. 5, P. 1, Article 215 of the CPC of the
Republic of Latvia1) and determination of the radio electronic device location (Article 268 of the CPC of Ukraine), seizure of electronic money (P. 10, Article 132 of the CPC of the Republic of Belarus'), prohibition in the media of images of a detained person, accused person, victim without their consent, which were obtained in the course of legal proceedings, using photos, videos, or other technical means, unless it is necessary to identify or prevent a crime (Articles 63, 66, 97 of the CPC of the Republic of Latvia), invitation of a person to the criminal prosecution authority or court, forwarding of documents to them by e-mail or other electronic communication systems (Clauses 2 and 3, Part 1 § 155, § 156b and 157a of the Law on the Administration of Justice of the Kingdom of Denmark3, P. 1.1, Article 236 of the CPC of the Republic of Moldova4), introduction of legal requirements for scientific and technical means used when collecting evidence (Part 3, Article 137 of the CPC of Turkmenistan5), attribution to the procedural costs of expenses associated with a court session in the mode of video conferencing (Clause 7.1, Article 318 of the CPC of the Republic of Uzbekistan6), determination of the distance separating ing the witness from the court, taking into account
Электронное уголовное дело в государствах англоамериканской и континентальной системы права и перспективы развития российского уголовного судопроизводства
При сохранении сущностных различий уголовного судопроизводства в государствах англо-американской и континентальной системы права современный этап развития уголовного процесса различных государств характеризуется гармонизацией, а в определенных вопросах - и унификацией, являющихся частью международной правовой интеграции, в которую вовлекается и Россия [6, с. 16-17]. Важную роль в этом играют международные организации, вырабатывающие единые стандарты уголовного судопроизводства, основанные в первую очередь (но не только) на защите прав и свобод личности [10, с. 19; 52, с. 12; 53, с. 5-21].
Самостоятельным направлением «выравнивания» процессуальной формы уголовного судопроизводства является его цифровизация, затрагивающая все государства без исключения, хотя объем и характер внедрения цифровых технологий имеет существенные различия, обусловленные в первую очередь техническими и экономическими возможностями конкретного государства.
Неравномерность этого процесса проявляется в том, что в одних государствах пока продолжают использоваться лишь традиционные технические средства, такие как фотографирование вещественных доказательств, аудио- и видеозапись процессуальных действий, электронные контрольные средства при домашнем аресте, устройства, изменяющие голос лица, в отношении которого применяются меры безопасности, и т.д., в других наблюдается активное внедрение элементов цифровизации, в первую очередь использование аудио- и видеоконференцсвязи, третья группа государств характеризуется «развитой цифровизацией», включающей введение электронного уголовного дела и единой цифровой платформы, объединяющей государственные органы и других участников уголовного судопроизводства. Причем национальное законодательство отличается большой вариативностью в части сочетания конкретных элементов цифровизации уголовного процесса и использования электронной информации. При этом нередко предусматриваются самобытные нормы: следственные действия в виде аудита сайта (и. 5 ч. 1 ст. 215 УПК Латвийской Республики1) и установления местонахождения радиоэлектронного средства (ст. 268 УПК Украины); наложение ареста на электронные деньги (ч. 10 ст. 132 УПК Республики Беларусь2); запрет публикации в средствах массовой информации изображений задержанного, обвиняемого, потерпевшего без из согласия, полученных в ходе процессуальных действий с помощью фото, видео или других технических средств, за исключением случаев, когда это необходимо для выявления или предотвращения преступления (ст. 63, 66, 97 УПК Латвийской Республики); вызов лица в орган уголовного преследования или суд; направление ему документов по электронной почте или посредством других электронных систем сообщения (и. 2 и 3 ч. 1 § 155, § 156b и 157а Закона Королевства Дании об отправлении правосудия3, ч. 1.1 ст. 236 УПК Республики Молдова4); установление в законе требований к научно-техническим средствам, применяемым при собирании доказательств (ч. 3 ст. 137 УПК Туркменистана5); отнесение к процессуальным издержкам расходов, связанных с проведением судебного заседания в режиме видеоконференцсвязи (и. 7.1 ст. 318 УПК Республики Узбекистан6); определение в законе расстояния, отделяющего свидетеля от суда, с учетом различных спосо- various modes of movement serving as the basis for his remote interrogation (Article 109 and 109a of the CPC of the Kingdom of Norway1), etc.
Despite the differences in the very procedure of criminal proceedings in the states of different systems of law and legal families, and the extent and indicators of its digitalization, the introduction of an electronic case (current or future) will significantly contribute to the standardization of criminal procedure due to the need to fill out electronic forms developed in accordance with the generally recognized principles and norms of international law, and international treaties, including the most important documents of the United Nations Organization, Council of Europe, European Union, and other international organizations. In any case, the process of completing electronic forms must have clear algorithms as prescribed by the criminal procedure legislation and procedural guarantees to protect against any risks.
However, the content of electronic case is inevitably affected by the specifics of the Anglo-American and continental criminal proceeding systems. This mainly relates to pre-trial stages, since a court proceeding is based on the principle of oral presentation, immediacy, transparency, competition, and its progress is more widely recorded using audio and (or) video means [9, pp. 136-158] with the obtained results forming a part of the electronic criminal case.
The situation is different with pre-trial proceedings, as its written form is strictly regulated by law and affects the requirements for evidence and the process of giving evidence in Russia, Germany, France, Italy. On the contrary, in the United States and Great Britain the absence of written form (the so-called criminal case which is represented by stitched written documents reflecting all actions and decisions) results in entering of only those facts that are brought to the court under general principles by the people who identified them. For example, an expert states an opinion to the court in oral form, similar to a witness testimony, which is also orally presented and not communicated to a detective.
In countries where there is no written form of pre-trial proceedings (and, therefore, other requirements for evidence are presented), it is easier to digitize criminal proceedings because they are represented by the petitions of citizens and government’s response on such petitions, information exchange, as well as video recording of various traces and possibility of testifying in court via video conferencing. In the states of the Anglo-American system of law, testimony is given only to the court, which excludes the announcement of information previously communicated to the representative by one of the parties. This is a very significant difference that determines the degree of competitiveness and equality of parties before the court and affects the content of electronic criminal case.
If pre-trial proceedings in Russia remain unchanged, digitalization shall mean ‘digitization of all papers’ related to the case, which will ultimately make it impossible to build a system of electronic criminal proceedings in its true meaning.
Results
In the light of the foregoing, it seems that the Russian criminal process can be adapted to the new digital reality by using the experience of states with an adversarial type of the criminal process and by transforming the pre-trial stages through further introduction of the adversarial process elements and additional guarantees of access to justice. These elements should be as follows:
-
- a new approach to pre-trial proceedings as to a public service for providing non-authorized participants with access to justice in criminal proceedings, including by generating and justifying a criminal law claim on violation of penal prohibition [33, p. 146];
бов передвижения, служащее основанием для его дистанционного допроса (ст. 109 и 109а УПК Королевства Норвегии1) и др.
Несмотря на различия как самого порядка уголовного судопроизводства в государствах, принадлежащих к разным системам права и правовым семьям, так и объема и проявлений его цифровизации, введение электронного дела (уже состоявшееся или перспективное) позволит внести существенный вклад в стандартизацию уголовно-процессуальной деятельности благодаря необходимости заполнения электронных форм, разработанных в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также международных договоров, включая важнейшие документы Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Европейского Союза, иных международных организаций. В любом случае электронные формы, которые необходимо заполнять, должны иметь четкие алгоритмы, основанные на уголовно-процессуальном законодательстве и обеспеченные процессуальными гарантиями для защиты от всевозможных рисков.
Вместе с тем на содержание электронного дела неизбежно накладывают отпечаток особенности англо-американской и континентальной систем уголовного судопроизводства. Главным образом это касается досудебных стадий, поскольку судебное разбирательство повсеместно построено на основе устности, непосредственности, гласности, состязательности, а его ход все шире фиксируется с помощью аудио- и (или) видеопротоколирования [9, с. 136-158], результаты которого становятся частью электронного уголовного дела.
Иная ситуация с досудебным производством, письменная форма которого жестко регламентирована законом и определяет требования к доказыванию и доказательствам в России, Германии, Франции, Италии. Напротив, отсутствие письменной формы (так называемого уголовного дела, которое представлено сброшюрованными письменными документами, отображающими все действия и решения) в
США, Великобритании требует фиксации только фактов, о которых по общему правилу перед судом сообщают те, кто их установил. Например, эксперт дает свое заключение в устной форме перед судом. Показания свидетеля -это также сведения, устно изложенные перед судом, а не сообщенные детективу.
В странах, где отсутствует письменная форма досудебного производства (и соответственно предъявляются иные требования к доказательствам), проще оцифровать уголовное судопроизводство, ибо оно представляет собой обращения граждан и реакцию на них государства, обмен информацией, а также видеофиксацию различных следов, возможность дачи показаний перед судом дистанционно через видеоконференцсвязь. В государствах англо-американской системы права показания даются только суду, что исключает оглашение в судебном заседании сведений, ранее сообщенных представителю одной из сторон. Это очень существенное различие, определяющее степень состязательности и равенства сторон перед судом и влияющее на содержание электронного уголовного дела.
Если досудебное производство в России останется без изменений, то под его цифровизацией так или иначе будут понимать «оцифровку всех бумаг», отображающих производство по делу, что в конечном итоге сделает невозможным построение электронного уголовного судопроизводства в истинном понимании его сути.
Результаты
В связи с изложенным представляется, что использование опыта государств с состязательным типом уголовного процесса и трансформация досудебных стадий посредством дальнейшего внедрения в них элементов состязательности, а равно дополнительных гарантий доступа к правосудию позволят адаптировать российский уголовный процесс к новой цифровой реальности. Такими элементами должны стать:
-
- новый подход к досудебному производству как к государственной услуге по обеспечению участникам, не наделенным властными полномочиями, доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве, в том числе путем формирования и обоснования уголовноправовой претензии о нарушении уголовноправового запрета [33, с. 146];
-
- transformation of preliminary (previous, prospective) judicial control in pre-trial proceedings so that similar to the preliminary investigation authorities, which submit petitions (and not just complaints), other participants in criminal proceedings could have the same right, for example, to submit petitions on the evidence depositing [15, pp. 8-16], on the adoption of measures to ensure a civil lawsuit, on the abolition of procedural measures of enforcement, etc. [35, pp. 12-15];
-
- transformation of preliminary judicial control into an independent judicial body, which would provide access to justice by considering petitions at the initial stage of criminal proceedings;
-
- a change in the prosecutor’s powers in pretrial proceedings so that the prosecutor would be responsible for initiating, substantiating, and subsequent supporting of an accusation in court;
-
- electronic interaction of government authorities and officials among themselves (including, for example, high-tech prosecutor’s supervision [36, p. 21]), as well as electronic interaction between the state and society (population) with the provision of digital equality for all participants.
Conclusions
The introduction of the electronic criminal case and electronic interaction among participants in criminal proceedings is a complex multi-stage process which includes both legal regulation and introduction of automated electronic document workflow systems.
An electronic case cannot be considered just as ‘digitization’ of the existing enormous paper workflow given the unstable legislative situation. It will require efforts aimed at the legal regulation of social relations in the new digital reality, elimination of costly and unnecessary elements, technical re-equipment, launch of an information security system, training of investigators, interrogators, prosecutors, and judges.
Changes in law cannot be limited only to regulating the technical aspects of electronic criminal cases. They should include a fundamentally new algorithm (legislative model) of pre-trial proceedings which would be based on the further development of competitiveness and equality of parties, as well as access to justice.
This model (algorithm) should include legally established options for filing an electronic crime report, obtaining electronic copies of procedural decisions that would provide or block access to justice (on registration of a message and initiation of an investigation, refusal to initiate an investigation, suspension and termination of proceedings, etc.). Interested parties should be legally entitled to electronically interact not only with the court (judge) but also with the prosecutor and investigator (interrogator).
It is necessary to ensure electronic interaction both between public authorities and interested parties (horizontally) and between public authorities (vertically).
In case of any new situations, which may occur in relation to the modern information technologies, the field of criminal proceedings should maintain its basis, the optimal ratio of public and discretionary principles of criminal proceedings and ensure digital equality.
The development of digital technologies and improvement of the legislative regulation in the sphere of electronic criminal cases should lead to optimized interaction of public authorities and persons interested in access to justice, increased confidence of citizens in the activities of public authorities, additional guarantees of the legitimacy principles in criminal proceedings.
In general, digitalization of criminal proceedings should be aimed not at facilitating the activities of public authorities and officials but at providing democratization, humanization, and justice in criminal proceedings in the interests of the society, state, and individual.
-
- трансформация предварительного (предшествующего, перспективного) судебного контроля в досудебном производстве с тем, чтобы в суд на равных с органами предварительного расследования условиях могли обращаться с ходатайствами (а не только с жалобами) и другие участники уголовного судопроизводства, например с ходатайствами о депонировании доказательств [15, с. 8-16], о принятии мер по обеспечению гражданского иска, об отмене мер процессуального принуждения и др. [35, с. 12-15];
-
- трансформации предварительного судебного контроля в организационно самостоятельный судебный орган, обеспечивающий доступ к правосудию путем рассмотрения обращений на начальном этапе уголовного судопроизводства;
-
- изменение полномочий прокурора в досудебном производстве с тем, чтобы именно на него возлагалось выдвижение, обоснования обвинения и впоследствии поддержание его перед судом;
-
- электронное взаимодействие государственных органов и должностных лиц между собой (включая, например, высокотехнологичный прокурорский надзор [36, с. 21]), а также электронное взаимодействие государства и общества (населения) при обеспечении всем участникам цифрового равенства.
Заключение
Внедрение электронного уголовного дела и электронного взаимодействия участников уголовного судопроизводства - сложный многоэтапный процесс, включающий и правовое регулирование, и внедрение автоматизированных систем электронного документооборота.
Нельзя представлять электронное дело как «оцифровку» существующего огромного потока бумажного документооборота на фоне нестабильного разбалансированного законодательства. Потребуются усилия, направленные на правовое урегулирование общественных отношений в новой цифровой реальности, избавление от всего затратного, ненужного, техническое перевооружение, установление системы информационной безопасности, обучение следователей, дознавателей, прокуроров, судей.
Изменение законодательства не может ограничиваться урегулированием технических аспектов введения электронного уголовного дела. Оно должно предусматривать принципиально новый алгоритм (законодательную модель) досудебного производства, в основе которого будет лежать дальнейшее развитие состязательности и равенства сторон, обеспечение доступа к правосудию.
Эта модель (алгоритм) должна предусматривать правовые возможности подачи электронного сообщения о преступлении, получение электронных копий процессуальных решений, обеспечивающих или блокирующих доступ к правосудию (о регистрации сообщения и начале расследования, об отказе в начале расследования, о приостановлении и прекращении производства по делу и т. д.). Заинтересованные лица должны иметь правовую возможность электронного взаимодействия не только с судом (судьей), но и с прокурором и следователем (дознавателем).
Необходимо установление электронного взаимодействия как по горизонтали - между государственными органами и заинтересованными лицами, так и по вертикали (между государственными органами).
При любых новых явлениях, основанных на современных информационных технологиях, в сфере уголовного судопроизводства следует сохранить его принципиальную основу, оптимальное соотношение между публичным и диспозитивным началами уголовного судопроизводства, обеспечить цифровое равенство.
Развитие цифровых технологий и совершенствование законодательного регулирования использования электронного уголовного дела должно привести к оптимизации взаимодействия государственных органов и лиц, заинтересованных в доступе к правосудию, повысить доверие граждан к деятельности государственных органов, установить дополнительные гарантии принципов законности в уголовном судопроизводстве.
В целом цифровизация уголовного судопроизводства должна быть направлена не на облегчение деятельности государственных органов и должностных лиц, а на обеспечение демократизации, гуманизации, справедливости уголовного судопроизводства в интересах общества, государства, личности.
Список литературы Законность и унификация в уголовном судопроизводстве: от бланков процессуальных документов - к электронному уголовному делу
- Абдуллаев Э. М. О законодательном закреплении бланков процессуальных документов // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2011. № 4. С. 34-36.
- Алимов П. Извещение от 21 августа 1928 года // Еженедельник советской юстиции. 1928. № 32.
- Альшевский Т. В. Образцы судебных документов по уголовным делам / под ред. Г.З. Анашкина. М.: Юрид. лит., 1976. 192 c.
- Андреев М. К вопросу печатных бланках протоколов судебных заседаний // Еженедельник советской юстиции. 1924. № 3-4. С. 72-73.
- Андреев М., Бахров Г., Лозинский С. Уголовный процесс РСФСР / под ред. А. Я. Эстрина. Л.: Рабочий суд, 1927. 208 с.
- Бахин С. В. Сотрудничество государств по сближению национальных правовых систем (унификация и гармонизация права): автореф. дис.... д-ра юрид. наук. СПб., 2003. 46 с.
- Б-р Г. Почему в нарсудах нескоро рассматриваются дела // Еженедельник советской юстиции. 1927. № 10. С. 286.
- Вилкова Т. Ю. Национальные порталы правовой информации как гарантия принципа обеспечения доступа к правосудию // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (25-26 апреля 2019 года, г. Симферополь-Алушта) / отв. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко. Симферополь: ИТ "АРИАЛ", 2019. С. 19-21.
- Вилкова Т. Ю. Принцип гласности уголовного судопроизводства: история, современность, перспективы. М.: Юрайт, 2019. 286 с.
- Вилкова Т. Ю. Принципы уголовного судопроизводства в законодательстве государств с пандектной и институционной системой права // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 3. С. 18-22.
- Вилкова Т. Ю. Реализация принципа языка уголовного судопроизводства на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в условиях развития цифровых технологий // Вопросы российского и международного права. 2019. Т. 9, № 3А. С. 306-313.
- Волков Н. Т. Руководство по составлению полицейских протоколов (по судебным и административным делам) и по обнаружению и исследованию преступлений. [СПб.]: Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1913. 292 с.
- Воскобитова Л. А. Уголовное судопроизводство и цифровые технологии: проблемы совместимости // Lex Russica. 2019. № 5. С. 91-104.
- DOI: 10.17803/1729-5920.2019.150.5.091-104
- Гаврилов Б. Я. Перераспределение процессуальных и надзорных полномочий между прокурором и руководителем следственного органа: объективная необходимость или волюнтаризм в праве? // Уголовное судопроизводство. 2009. № 4. С. 35-44.
- Гамбарян А. С., Симонян С. А. Судебное депонирование показаний в современном уголовном процессе / под ред. С. С. Аветисяна. М.: Юрлитинформ, 2016. 156 с.
- Гольдштейн М. Л. Движение уголовного процесса: практ. примеры. СПб.: Тип. СПб. т-ва "Труд", 1907. 373 с.
- Грач. НОТ в органах юстиции // Еженедельник советской юстиции. 1928. № 34. С. 935-936.
- Гуськова А. П., Муратова Н. Г. Судебное право: история и современность судебной власти в сфере уголовного судопроизводства. М.: Юрист, 2005. 176 с.
- Дудко И. Л. Разъяснение обвиняемому особенностей рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей // Российский судья. 2005. № 3. С. 44-45.
- Е. Ч. VI Всероссийский Съезд деятелей советской юстиции и вопрос о применении НОТ'а в судебных органах // Еженедельник советской юстиции. 1926. № 15. С. 461-464.
- Ищенко В. Краткое практическое руководство для народных следователей. М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1925. 74 с.
- Карп Н., Фрадкин Л. НОТ в органах юстиции. Новое в делопроизводстве // Еженедельник советской юстиции. 1928. № 19. С. 578-579.
- Карп Н., Фрадкин Л. НОТ в органах юстиции. Основные принципы реформы управления // Еженедельник советской юстиции. 1928. № 31. С. 867-868.
- Качалова О. В., Цветков Ю. А. Электронное уголовное дело - инструмент модернизации уголовного судопроизводства // Российское правосудие. 2015. № 2. С. 95-101.
- Клигер А., Крапивник, Муромкин А. [Рецензия] // Социалистическая законность. 1950. № 9. С. 80-82. Рец. на кн.: Лебединский В. Г. Образцы основных прокурорско-следственных актов / под ред. Г.Н. Сафонова. М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1949. 176 с.
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. Д. Н. Козак, Е. Б. Мизулина. М.: Юристъ, 2002. 1039 с.
- Коновалов П. Рационализация судебного производства // Еженедельник советской юстиции. 1928. № 36-37. С. 1003-1004.
- Кравченко. Больше внимания низовому аппарату // Еженедельник советской юстиции. 1927. № 8. С. 226.
- Лагунов П. Следственные и административные органы в работе после изменений УК и УПК // Еженедельник советской юстиции. 1925. № 8. С. 195.
- Лебединский В. Г. Образцы основных прокурорско-следственных актов / под ред. Г. Н. Сафонова. М.: Госюриздат, 1949. 175 с.
- Макаров А., Фабрици П. Бланк процессуального документа не должен расширять содержание нормы УПК // Российская юстиция. 2003. № 2. С. 29.
- Мартынов Н. К. Образцы и формы деловых бумаг (Письма, прошения, договоры, обязательства, судопроизв. бумаги и проч.). [СПб.]: Юрид. кн. маг. Н. К. Мартынова, 1898. 212 с.
- Масленникова Л. Н. Трансформация досудебного производства в начальный этап уголовного судопроизводства, обеспечивающий доступ к правосудию в эру "Industry 4.0" // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 6. С. 137-146.
- DOI: 10.17803/1994-1471.2019.103.6.137-146
- Масленникова Л. Н., Собенин А. А. Регистрация сообщения о преступлении и начало расследования в новой цифровой реальности // Российский следователь. 2019. № 6. С. 12-16.
- Масленникова Л. Н., Сушина Т. Е. Обеспечение доступа к правосудию в Европейском союзе в условиях развития цифровых технологий // Мировой судья. 2019. № 7. С. 12-15.
- Масленникова Л. Н., Таболина К. А. Оптимизация надзора прокурора за принятием решений, обеспечивающих доступ к правосудию, в условиях развития цифровых технологий // Законность. 2019. № 7. С. 18-22.
- Минкомсвязь в ближайший месяц представит первые модели суперсервисов // Будущее России: национальные проекты. URL: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnyeproekty/559471?utm_source=tass&utm_medium=teaser&utm_campaign=teaser_plista: (дата обращения: 20.08.2019).
- Образцы процессуальных документов. Судебное производство / под ред. В. А. Давыдова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 440 с.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. 17-е изд., стер. М.: Рус.яз., 1985. 797 с.
- Пастухов П. С. Электронный документооборот в уголовном процессе США // Правопорядок: история, теория, практика. 2018. № 4. С. 81-87.
- Познанский Ю. Н. Электронное уголовное дело в решении проблемы расследования уголовных дел в разумные сроки // Труды Академии управления МВД России. 2015. № 1. С. 41-44.
- Познышев С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М.: Г. А. Леман, 1913. 329 с.
- Процессуальные акты предварительного расследования: примерные образцы / под ред. С. В. Бородина. М.: Юрид. лит., 1991. 240 c.
- Процессуальные следственные акты. (Образцы основных актов) / отв. ред. А. И. Михайлов. М., 1973. 212 с.
- Рейнке Н. Н. [Рецензия] // Право. 1916. № 2, ст. 134-135. Рец. на раб.: Якоби П. Н. Практическое руководство к составлению обвинительных актов и заключений. Пг.: Сенат. тип., 1915. 116 с.
- Руднев М. Л., Кандель Г. Л. Уголовный процесс в его движении: пособие по изучению уголовного процесса для судебных работников с приложением образца уголовного дела. Одесса: Светоч, 1927. 270 с.
- Савицкий Ф. Ф. Постановка вопросов на суде уголовном и сборник образцов вопросов по наиболее распространенным преступлениям: пособие для членов окруж. судов. Кишинев: Тип. Бессараб. губ. правл., 1913. 288 с.
- Самолин В. Убрать из судов образцы исковых заявлений // Российская юстиция. 2001. № 4. С. 32.
- Симсон С. К вопросу печатных бланках протоколов судебных заседаний // Еженедельник советской юстиции. 1924. № 15. С. 352.
- Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1913. 670 с.
- Советский уголовный процесс / под ред. А. Я. Вышинского // Библиотечка районного прокурора. Вып. IV. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1938. 72 с.
- Сорокина Е. М. Гармонизация уголовно-процессуального законодательства в Европейском Союзе: автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2016. 31 с.
- Стойко Н. Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное теоретико-правовое исследование англо-американской и романо-германской правовых систем. СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. 261 с.
- Стройков В. Реализация права защитника на опрос лиц // Законность. 2004. № 6. С. 52-54.
- Томашевский А. Итоги работы Отделения выездных сессий Петрогубсуда // Рабочий суд. 1923. № 3-4. С. 29-31.
- Уголовный процесс России: лекции-очерки / под ред. В. М. Савицкого. М.: Бек, 1997. 314 с.
- Фрадкин Л. Вопросы НОТ'а. Стандартизация документов, функционирующих в местных органах юстиции // Еженедельник советской юстиции. 1928. № 4. С. 119-121.
- Халиуллина Л. Г. Электронная форма процессуальных документов в уголовном процессе: проблемы теории и практики // Правопорядок: история, теория, практика. 2016. № 4 (11). С. 75-79.
- Чебышев-Дмитриев А. П. Русское уголовное судопроизводство по судебным уставам 20 ноября 1864 г. СПб.: В. П. Печаткин, 1875. 756 с.
- Чельцов М. А. Уголовный процесс. М.: Юрид. изд-во, 1948. 624 с.
- Шереметьев И. И. Использование цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в суде: реальность и перспективы // Lex Russica. 2019. № 5. С. 117-131.
- DOI: 10.17803/1729-5920.2019.150.5.117-131
- Шрамченко М. П., Ширков В. П. Устав уголовного судопроизводства: С позднейшими узаконениями, законодат. мотивами, разъясн. Правительствующего сената и циркуляра М-ва юстиции. [СПб.]: Н.К. Мартынов, 1909. 1192 с.
- Шутемова Т. Приложения к УПК: догма или руководство к действию? // Законность. 2002. № 10. С. 41-42.
- Щегловитов С. Г. Устав уголовного судопроизводства. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1913. 948 с.
- Якоби П.Н. Практическое руководство к составлению обвинительных актов и заключений. Пг.: Сенат. тип., 1915. 116 с.
- Billard D., Bartolomei B. Digital Forensics and Privacy-by-Design: Example in a Blockchain-Based Dynamic Navigation System // Naldi M., Italiano G., Rannenberg K., Medina M., Bourka A. (eds) Privacy Technologies and Policy. APF 2019. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 11498. Pp. 151-160. Springer, Cham.
- DOI: 10.1007/978-3-030-21752-5_10
- Ning W., Zhi-Jun L. A Layer-Built Method to the Relevancy of Electronic Evidence. 2nd IEEE Advanced Information Management, Communicates, Electronic and Automation Control Conference (IMCEC). Xi'an, 2018. Pp. 416-420. 10.1109/IMCEC.2018. 8469682. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8469682&isnumber=8469184.
- DOI: 10.1109/IMCEC.2018.8469682.URL
- Pechnikov G., Shinkaruk V. Computing Systems (Computers) and Criminal Trial // Popkova E. (eds) Ubiquitous Computing and the Internet of Things: Prerequisites for the Development of ICT. Studies in Computational Intelligence. Vol. 826. Pp. 265-274. Springer, Cham.
- DOI: 10.1007/978-3-030-13397-9_30
- Tabassum D. K., Shaiba D. H., Shamrani S. and Otaibi S. E-Cops: An Online Crime Reporting and Management System for Riyadh City. 1st International Conference on Computer Applications & Information Security (ICCAIS). Riyadh, 2018. Pp. 1-8.
- DOI: 10.1109/CAIS.2018.8441987
- Shih T.-F.; Chen C.-L.; Syu B.-Y.; Deng Y.-Y. A Cloud-Based Crime Reporting System with Identity Protection. Symmetry. 2019. 11(2):255.
- DOI: 10.3390/sym11020255