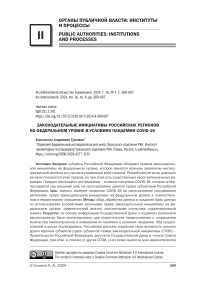Законодательные инициативы российских регионов на федеральном уровне в условиях пандемии COVID-19
Автор: Константин Андреевич Сулимов
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Органы публичной власти: институты и процессы
Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: субъекты Российской Федерации обладают правом законодательной инициативы на федеральном уровне, которое является важным элементом институциональной системы их участия в управлении всей страной. Российские регионы довольно активно пользуются этим правом, но при этом есть существенные кросс-региональные вариации. Предмет настоящего исследования – влияние пандемии COVID-19, которая интерпретируется как внешний шок, на использование данного права субъектами Российской Федерации. Цель: оценить влияние пандемии COVID-19 на использование российскими регионами права законодательной инициативы на федеральном уровне в количественном и тематическом отношении. Методы: сбор, обработка данных и создание базы данных по использованию российскими регионами права законодательной инициативы на федеральном уровне, сравнительный анализ, описательная статистика, корреляционный анализ. Результаты: на основе информации Государственной Думы о поданных регионами законопроектах были протестированы два теоретических предположения о сокращении количества законопроектов и изменении их тематики в условиях пандемии. Оба предположения в целом подтвердились. Российские регионы сократили свою активность сильнее других крупных субъектов (групп субъектов) права законодательной инициативы (СПЗИ) – Правительства Российской Федерации, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, при этом, в отличие от других СПЗИ, у них резко выросла доля законопроектов социальной направленности. Выводы: несмотря на то, что в целом активность регионов в инициировании федеральных законов сократилась, эта деятельность остается важной для них, внешний шок не заставил совсем отказаться от нее. При этом результаты показывают, что субъекты Российской Федерации избрали разные стратегии адаптации к кризису: если часть их них резко сократила активность из-за изменения приоритетов и переадресации ресурсов, то другая, наоборот, увеличила активность, и прежде всего за счет законопроектов в сфере социальной политики (в широком смысле). Таким образом, регионы используют свое право законодательной инициативы на федеральном уровне, в том числе как инструмент практического решения проблем, с которыми они сталкиваются.
Государственное управление, регионализм, законопроекты, регионы России, многоуровневая политика, пандемия COVID-19, внешний шок
Короткий адрес: https://sciup.org/147247359
IDR: 147247359 | УДК: 321.7:342 | DOI: 10.17072/2218-9173-2024-4-589-607
Текст научной статьи Законодательные инициативы российских регионов на федеральном уровне в условиях пандемии COVID-19
1 Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, Институт гуманитарных исследований Уральского отделения РАН, Пермь, Россия, ,
1Perm Federal Research Center of the Ural Branch of the RAS, Institute for Humanitarian Studies of the Ural Branch of the RAS, Perm, Russia, ,
Субъекты Российской Федерации имеют право законодательной инициативы на федеральном уровне, то есть они могут, как и другие субъекты законодательной инициативы, направлять в Государственную Думу законопроекты, тем самым запуская известную процедуру, в результате которой может быть принят федеральный закон. Это право является важным элементом институциональной системы участия регионов в управлении всей страной, и они довольно активно им пользуются. Долгое время российские регионы были второй по активности группой субъектов права законодательной инициативы после депутатов Госдумы.
Это право российских регионов, не будучи уникальным в сравнительном плане, все же является довольно редким. По подсчетам автора (в рамках другого исследования), в истории было двадцать три страны (как минимум), в конституциях которых субнациональные единицы (обычно их легислатуры), то есть регионы, муниципалитеты и т. д., наделялись подобным правом. В настоящий момент таких стран двадцать. Во многих федеративных и регио-нализованных странах это право и соответствующий механизм отсутствуют, а возможность участия в управлении страной реализована через другие механизмы. Самый типичный – верхняя палата национального парламента, но не только (Tremblay, 2023; Behnke and Mueller, 2017; Palermo, 2018).
Степень исследовательского интереса к этой теме, выражаемая в количестве публикаций, пока не очень высока, но увеличивается в последнее время, что можно видеть по датам публикаций. Ученых интересует, как региональные законодательные инициативы фактически работают в разных странах, какие факторы определяют активность регионов и соответствующие кросс-региональные вариации. Имеющиеся исследования посвящены кейсам Швей- царии (Mueller and Mazzoleni, 2016), Мексики (Ugues et al., 2017), Германии (Finke and Souris, 2019), России (Сулимов, 2020), Испании (Sanjaume-Calvet and Paneque, 2023), Чешской Республики (Hájek, 2024), сравнению ряда европейских стран (Сулимов, 2022). Также есть обзорные публикации (Noble, 2019; Parra Gómez, 2016).
Исследования в первую очередь показывают, как региональная специфика (экономическая, политическая, культурная, историческая, географическая и пр.) влияет на активность регионов в инициировании национального (федерального) законодательства. В данной статье ставится вопрос о том, как мощный внешний фактор в виде пандемии COVID-19 повлиял на использование российскими регионами своего права законодательной инициативы. Сам интерес к экзогенным шокам и их воздействию на публичное управление имеет давнюю историю, при этом сложились разные подходы к самому понятию «внешний шок» (Декальчук, 2014). Пандемию COVID-19 явным образом можно рассматривать как сильное, неожиданное и внешнее воздействие, приведшее к серьезному кризису. Изучению влияния пандемии и реакции на нее, в том числе со стороны публичного управления, посвящено уже немало работ (см., например: Arkturk and Lika, 2022; Boin et al., 2021; Laruelle et al., 2021; Гельман, 2022); есть и работы применительно к российским регионам в разных аспектах (Федорова и Губанов, 2024; Nikitin and Zamyatina, 2023; Соколов и Завадская, 2023).
Вопрос о том, насколько стрессоустойчивыми оказываются страны (и регионы) к внешним шокам в разных формах – адаптивной, проактивной, трансформативной (Гельман, 2022; Obrist et al., 2010), в отношении публичного управления оборачивается вопросом о том, какие стратегии выбирают органы публичной власти в кризисных условиях. Применительно к активности российских регионов в инициировании федерального законодательства можно предполагать наличие как стратегии «сжатия», избавления от«непрофильных»активностей,такистратегии,имеющейпроактивныечерты, а именно использующей этот механизм для решения стоящих перед регионом задач и вызовов.
Дальше эти предположения обосновываются, эксплицируются эмпирические данные, на которых они проверялись, и приводятся результаты.
МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ
Субнациональные единицы, обладающие собственными органами власти и полномочиями, а значит определенной долей автономии, в современных условиях включены в систему, которая все чаще получает осмысление в рамках концепта «многоуровневое управление» (multilevel governance, MLG) (см., например: Hooghe et al., 2016; Hooghe and Marks, 2003; Schakel, 2016; Schakel et al., 2015) или даже «многоуровневая политика» (Alcantara et al., 2016). Автономия субнациональных единиц генеральным образом реализуется в двух направлениях. Одно из них собственно самоуправление (self-rule), а другое – совместное управление, участие в управлении страной в целом (shared rule). Право законодательной инициативы и обеспечивающий ее меха-
Сулимов К. А. Законодательные инициативы российских регионов на федеральном уровне в условиях пандемии COVID-19 низм явным образом имеют отношение ко второму, к совместному управлению, потому что самым очевидным результатом направления законопроекта является принятие национального (федерального) закона, действие которого будет распространяться на всех, а не только на субъекта, его инициировавшего.
Однако интерес инициатора принятия закона может состоять в том, чтобы с его помощью решить собственную региональную проблему, которая не поддается решению в рамках полномочий, которыми он обладает. Отсюда может возникать запрос на национальное (федеральное) регулирование. Характер и тематика таких запросов определяются, с одной стороны, тем, как распределены полномочия между центром и регионами, а с другой – региональной спецификой, то есть степенью отклонения региона и его проблем от типичных для данной страны, на которые в основном и ориентировано национальное законодательство.
Таким образом, речь идет о том, что можно обозначить как проблемно ориентированный подход к подаче законопроектов на национальный (федеральный) уровень. Цель этого подхода – в получении инструментов или прямого решения конкретных проблем, с которыми сталкивается регион. Однако важно отметить, что вероятность решения конкретной проблемы региона с помощью названного механизма не очень высока. Более того, имеющиеся данные показывают, что в целом результативность его инструментального использования низкая. В России за весь период с 1994 года законами стали только порядка 8 % инициатив регионов. За последние десять лет (2014– 2023) результативность повысилась до 13 %1, но все же и она не может быть расценена как значительная.
Причины активности регионов в условиях столь низкой инструментальной результативности могут быть интерпретированы в логике «символической политики» (“symbolic politics”) (Edelman, 1985; Sears et al., 1980) и «символического законодательства» (“symbolic legislation”) (Klink, 2016). Регионы инициируют законопроекты, даже понимая, что те не станут законами, потому что рассчитывают с помощью этой активности решить другие задачи. Продуцирование законодательных инициатив может быть символической стратегией, цель которой не решать конкретные проблемы, а управлять ими для обеспечения себе политических преимуществ. Эти преимущества могут иметь вполне конкретный характер в виде электоральной мобилизации и конкуренции с другими партиями вокруг региональных вопросов, как показано на примере активности регионалистов в кантонах Тичино и Женева (Mueller and Mazzoleni, 2016), или перекладывания на национальный (федеральный) центр ответственности за нерешение проблем. Законодательная активность может быть частью более широкой стратегии по позиционированию себя и региона в глазах внешних заинтересованных сторон, по поддержанию или изменению своего политического статуса, который всегда имеет символическое содержание (Mendelberg, 2022). Российские регионы инициируют законопроекты, которые явно вызваны какими-то иными причинами, нежели желанием решить конкретную региональную проблему: например, Санкт-Петербург подавал в 2010 году законопроект (№ 473815-5) о замене понятия «трудовая пенсия по старости» на понятие «трудовая пенсия по возрасту».
В контексте российских условий важно иметь в виду, что, хотя непосредственными акторами, направляющими федеральные законопроекты от лица субъектов Российской Федерации, выступают законодательные собрания, инициировать их внутри региона могут не только депутаты, но и другие акторы, обладающие правом законодательной инициативы на региональном уровне, и прежде всего исполнительная власть. Можно предполагать наличие у разных акторов разных стимулов. Для депутатов законотворческая активность является профильным и ключевым видом деятельности. Соответственно, они заинтересованы в поддержании ее активности на определенном уровне, при этом содержание и тематическая направленность законопроектов для них второстепенны. Напротив, для исполнительной власти законотворческая активность имеет второстепенное, инструментальное значение, так как не является основным показателем деятельности. При этом именно на исполнительную власть возлагается ответственность за решение конкретных проблем в жизни региона. Однако из этих теоретических соображений нельзя однозначно заключить, что один тип акторов – исполнительная власть – всегда следует проблемно ориентированному подходу в законотворческой деятельности, а другой – депутаты и законодательные собрания в целом – реализует подход символического законодательства. Скорее можно говорить о том, что в условиях конкретной ситуации каждого региона будет складываться то или иное сочетание этих подходов.
Применительно к ситуации внешнего шока в виде пандемии COVID-19 вышеуказанные теоретические основания позволяют сформировать некоторые теоретические ожидания относительно изменения активности российских регионов в подаче законопроектов в Государственную Думу.
Во-первых, можно ожидать общего снижения активности, которое должно проявиться в сокращении количества законопроектов. Для подготовки и принятия решений по инициативам необходимы ресурсы, как минимум кадровые и временные, и коллективное взаимодействие заинтересованных сторон. В условиях коронавирусных ограничений разного рода взаимодействие оказывалось затруднено, требовалось освоение новых форматов, что увеличивало издержки и должно было сказаться на продуктивности. Кроме того, происходило изменение приоритетов активности с концентрацией усилий на особо важных направлениях деятельности и отказом (или сокращением) от второстепенных, не дающих желаемого эффекта в данных условиях.
Во-вторых, можно ожидать изменения тематической направленности законопроектов в тех ситуациях, когда их инициирование рассматривалось региональными акторами как инструмент проактивной политики и решения стоящих перед регионом проблем и задач. Ключевой зоной ответственности региональных властей является социальная сфера. Если посмотреть на расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации прямо перед пандемией (2019 год), то именно социальная сфера в широком смысле (то есть включающая социальную политику в узком (бюджетном) смысле, а также образование, здравоохранение, культуру и ЖКХ) занимала порядка 70 % в среднем в расходах регионов (Гурвич и Краснопеева, 2024, с. 7). Соот-
Сулимов К. А. Законодательные инициативы российских регионов на федеральном уровне в условиях пандемии COVID-19 ветственно, столкнувшись с кризисом, регионы в целом могли увеличить долю законопроектов, касающихся именно социальной сферы.
В-третьих, можно предполагать наличие кросс-региональных вариаций в динамике активности по инициированию законопроектов в зависимости от степени, в которой субъекты Российской Федерации оказались затронуты коронавирусной инфекцией. В этом отношении есть два взаимосвязанных ожидания. Первое заключается в том, что регионы, более других пострадавшие от последствий пандемии, должны были сократить свою активность из-за введенных ограничений и изменения приоритетов, о чем уже говорилось выше. Второе заключается в том, что регионы, более других затронутые пандемией, могли увеличить свою активность, и особенно по законопроектам в сфере социальной политики. Логика такого поведения была описана выше.
Для проверки этих предположений были собраны данные по законодательным инициативам регионов на федеральном уровне. Данные были выгружены из Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации2. Информация охватывала три периода: период до наступления пандемии, период острой фазы пандемии и период окончания пандемии (далее в статье эти периоды обозначены как «До-Ковид», «Ковид» и «Пост-Ковид»).
Хронологические рамки ключевого периода «Ковид» определены как 1 апреля 2020 года – 31 марта 2022-го. Даты, конечно, условные. Вхождение в режим ограничений из-за разворачивающейся пандемии было постепенным и продолжалось в течение нескольких месяцев с начала 2020 года. Моментом перехода в новое состояние можно считать рубеж марта-апреля 2020 года, когда стали вводиться серьезные ограничения разного рода и в конце концов был объявлен локдаун: с 4 по 30 апреля 2020 года в России установили режим нерабочих дней3. Выход из режима антиковидных ограничений тоже был постепенным – с весны до начала лета 2022 года. Точку поставил Роспотребнадзор 1 июля 2022 года, когда сообщил о прекращении действия всех антиковидных ограничений, включая масочный режим4. Строгий двухгодичный период был выбран для упрощения восприятия. Соответственно, период «До-Ковид» был также определен как двухлетний, с 1 апреля 2018 года до 31 марта 2020-го. И последний период – «Пост-Ковид» – это время с 1 апреля 2022 года по январь 2024-го5. В таблице 1 приведена статистика по общему количеству поданных регионами законопроектов за все три периода.
Таблица 1 / Table 1
Общее количество законопроектов по периодам и группам субъектов права законодательной инициативы (СПЗИ) / The total number of bills by periods and groups with a right of initiative
|
Периоды |
Все СПЗИ |
Федеральное Собрание РФ |
Регионы |
Правительство РФ |
|
«До-Ковид» (01.04.2018 – 31.03.2020) |
2 305 |
1 179 |
397 |
661 |
|
«Ковид» (01.04.2020 – 31.03.2022) |
2 037 |
1 022 |
273 |
679 |
|
«Пост-Ковид» (01.04.2022 – январь 2024) |
2 154 |
1 231 |
265 |
615 |
|
За все три периода |
6 496 |
3 432 |
935 |
1 955 |
Примечание: Федеральное Собрание РФ – депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.
Источник: составлено автором на основе данных СОЗД.
Для оценки тематического перераспределения законопроектов между периодами в динамике была использована кодировка, применяемая в СОЗД. Бо ́ льшая часть зарегистрированных в ней законопроектов отнесена к одному из шести тематических блоков: государственное строительство и конституционные права граждан; бюджетное, налоговое, финансовое законодательство; оборона и безопасность; социальная политика; экономическая политика; ратификация международных договоров Российской Федерации (последний блок далее не учитывался, потому что регионы по этому тематическому направлению не активны).
Для оценки влияния распространения пандемии на регионы были использованы данные официальной статистики по количеству зарегистрированных смертей в разрезе регионов, представленные на сайтах разных агрегаторов6. Данные были собраны по нескольким временны ́ м точкам, чтобы учесть динамику развития ситуации: на сентябрь 2020 года и сентябрь 2021-го, то есть посередине каждого из годов двухлетнего ковидного периода; на сентябрь 2022 года, то есть на момент перехода в постковидный период; и на январь 2021 года, то есть на момент формирования уже устойчивых данных по распространению коронавирусной инфекции. Данные были взвешены на среднегодовую численность населения регионов в 2021 году7.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В таблице 2 приведены данные по долевому распределению активности трех самых значимых субъектов (групп субъектов) законодательной инициативы на федеральном уровне в России: правительства, регионов в совокупности, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации в совокупности. Данные показывают, что активность в ковидный период сократили как депутаты и сенаторы, так и регионы. Только активность правительства осталась примерно на том же уровне. При этом субъекты Российской Федерации сократили свою активность намного значительнее, нежели народные избранники и члены верхней палаты парламента. Также можно отметить, что депутаты и сенаторы в пост-ковидный период восстановили уровень своей доковидной активности и даже несколько превзошли его (особенно если учесть, что постковидный период в нашей выборке несколько короче по времени двух других), а вот регионы остались на том же уровне, на который опустились в ковидный период. Из этого нельзя сделать однозначный вывод о продолжении воздействия ковидных эффектов, потому что в целом за последние пятнадцать лет динамика региональной активности была отрицательной. Но резкость падения количества законопроектов от субъектов Российской Федерации в ковидный период – в абсолютных цифрах почти в полтора раза (см. табл. 1) – разумно связать именно с пандемией.
Таблица 2 / Table 2
Долевое распределение количества законопроектов по периодам и группам субъектов права законодательной инициативы (СПЗИ), % / The share distribution of the number of bills by periods and groups with a right of initiative, %
|
Периоды |
Все СПЗИ |
Федеральное Собрание РФ |
Регионы |
Правительство РФ |
|
«До-Ковид» (01.04.2018 – 31.03.2020) |
35,48 |
34,35 |
42,46 |
33,81 |
|
«Ковид» (01.04.2020 – 31.03.2022) |
31,36 |
29,78 |
29,20 |
34,73 |
|
«Пост-Ковид» (01.04.2022 – январь 2024) |
33,16 |
35,87 |
28,34 |
31,46 |
|
За все три периода |
100 |
100 |
100 |
100 |
Примечание: Федеральное Собрание РФ – депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.
Источник: таблицы 2, 3, 6 и 7 рассчитаны автором на основе данных СОЗД.
Второе предположение состояло в том, что регионы, столкнувшись с вызовами пандемии, в целом отреагируют на это увеличением доли законопроектов в области социальной политики. В таблице 3 представлены данные, позволяющие оценить сдвиги в тематиках законопроектов между доковидным
Федер. службы статистики. 2023. 1 авг. URL: (дата обращения: 21.07.2024).
и ковидным периодами по субъектам (группам субъектов) права законодательной инициативы и по пяти тематическим направлениям. Можно видеть, что изменения есть по всем тематикам и разным субъектам, но большинство из них незначимы. Самый серьезный сдвиг – это как раз увеличение более чем в 1,3 раза доли законопроектов регионов по тематическому направлению «социальная политика» (куда относятся большинство законопроектов, поступивших в Госдуму и затрагивающих социальную политику в узком (бюджетном) смысле, образование, здравоохранение, культуру, ЖКХ). Таким образом, второе теоретическое предположение получает эмпирическое подтверждение.
Таблица 3 / Table 3
Изменения в тематике законопроектов, внесенных регионами в Государственную Думу по периодам, % / Changes in the subject of the bills submitted by the regions to the State Duma by periods, %
|
Субъекты права законодательной инициативы |
к 0 s 4) К |
g U О “ 2 о и = □ и с 5 5 о у н д д и се я о л к « 5 и о 2 2 я Я * е S м |
4) о о д к И И Д « “ Ч В Й У н ь « s S 8 5 S U S и н Й ^ £ и й в S |
св О 3 и о w О к V 4) ю S |
ев св Св и е |
S я m |
|
Регионы РФ |
1 |
9,32 |
41,56 |
5,54 |
14,86 |
28,46 |
|
2 |
9,16 |
41,39 |
4,40 |
19,78 |
25,27 |
|
|
Федеральное Собрание РФ |
1 |
15,86 |
32,57 |
9,75 |
22,31 |
19,17 |
|
2 |
16,44 |
31,31 |
7,34 |
22,21 |
20,25 |
|
|
Правительство РФ |
1 |
23,75 |
24,05 |
7,87 |
11,20 |
23,75 |
|
2 |
23,12 |
23,42 |
9,87 |
12,37 |
26,36 |
Примечания: периоды: 1 – «До-Ковид» (01.04.2018 – 31.03.2020), 2 – «Ковид» (01.04.2020 – 31.03.2022); Федеральное Собрание РФ – депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.
Оценка связи пандемии с изменением активности в кросс-региональном измерении была проведена с помощью корреляционного анализа данных по относительному (на размер населения) количеству зарегистрированных смертей и доли законопроектов по направлению «социальная политика» в общем количестве законопроектов региона. Необходимо отметить, что официальная статистика по коронавирусу имеет свои ограничения для данного анализа. Для последнего важно то, как воспринимали угрозы пандемии те региональные акторы, которые имели отношение к подготовке и принятию решений о законопроектах. Можно уверенно полагать, что данные официальной статистики не были единственным источником информации, определявшим их восприятие ситуации. Однако в целом результаты анализа, приведенные в таблице 4, представляются соответствующими теоретическим ожиданиям.
Для более точной оценки динамики дополнительно к трем уже обозначенным периодам были добавлены еще два. Первый – это второй год пан- демии, то есть с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022-го, условно – «Меж-Ковид-1». Второй дополнительный период – это период с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2023-го, то есть двухлетний отрезок, который захватывает по году от ковидного и постковидного периодов, условно – «Меж-Ковид-2». Смысл введения двух дополнительных периодов состоял в учете того обстоятельства, что подготовка законопроекта и принятие решения по нему законодательным собранием региона требуют времени. Думается, что необходимый срок может составлять от недель до месяцев и даже больше. Соответственно, первый удар пандемии должен был прийтись на законопроекты, которые задумывались и готовились еще в доковидный период. А влияние пандемии на новые законопроекты, разрабатываемые во время ковида, можно отследить только на более поздних этапах.
Данные в таблице 4 показывают, как предположительно различаются эффекты пандемии в каждый из периодов. В ковидный период, то есть с апреля 2020 года по март 2022-го, невозможно с уверенностью говорить о наличии связи между удельной смертностью и активностью по законопроектам: коэффициенты по всем отрезкам отрицательные, но незначимые. Однако коэффициенты растут и приобретают значимость во второй год пандемии – с апреля 2021 года по март 2022-го (за исключением статистики на сентябрь 2022 года, что логично). Эта ситуация сохраняется и в дальнейшем. Активность регионов по законопроектам в период с апреля 2021 года по март 2023-го отрицательно коррелирует со статистикой по зарегистрированным смертям. Причем значимая корреляция со статистикой смертности на сентябрь 2020 года и январь 2021-го, как представляется, может быть объяснена временны ́ м лагом между замыслом законопроекта и его направлением в Госдуму. Но в постковидный период эта связь ослабевает.
Таблица 4 / Table 4
Матрица ранговых корреляций Спирмена для количества законопроектов от регионов (взвешено) и значений статистики пандемии (взвешено) по периодам / Spearman rank correlation matrix for the number of regional bills (weighted) and pandemic statistics values (weighted) by period
|
Периоды статистики пандемии по зарегистрированным смертям |
«Ковид» (01.04.2020 – 31.03.2022) |
«Меж-Ковид-1» (01.04.2021 – 31.03.2022) |
«Меж-Ковид-2» (01.04.2021– 31.03.2023) |
«Пост-Ковид» (01.04.2022 – 18.01.2024) |
|
Сентябрь 2020 г. |
–0,134 |
–0,214* |
–0,240* |
–0,210 |
|
Январь 2021 г. |
–0,161 |
–0,265* |
–0,242* |
–0,175 |
|
Сентябрь 2021 г. |
–0,148 |
–0,240* |
–0,255* |
–0,107 |
|
Сентябрь 2022 г. |
–0,147 |
–0,208 |
–0,219* |
–0,072 |
Примечание: * – корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); ** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
Источник: таблицы 4 и 5 рассчитаны автором на основе данных СОЗД и статистики по распространению коронавируса.
Таблица 5 / Table 5
Матрица ранговых корреляций Спирмена для доли законопроектов по социальной политике и значений статистики пандемии (взвешено) по периодам / Spearman rank correlation matrix for the share of social policy bills and pandemic statistics values (weighted) by period
|
Периоды статистики пандемии по зарегистрированным смертям |
«Ковид» (ЗП–СП) (01.04.2020 – 31.03.2022) |
«Меж-Ковид-2» (ЗП–СП) (01.04.2021 – 31.03.2023) |
«Пост-Ковид» (ЗП–СП) (01.04.2022 – 18.01.2024) |
|
Сентябрь 2020 г. |
–0,167 |
–0,054 |
–0,107 |
|
Январь 2021 г. |
–0,216 |
0,079 |
–0,053 |
|
Сентябрь 2021 г. |
–0,077 |
0,220 |
0,143 |
|
Сентябрь 2022 г. |
–0,039 |
0,226 |
0,254* |
Примечание: *– корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); ** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); «ЗП–СП» – законопроекты тематического блока «социальная политика».
Таблица 6 / Table 6
Группы регионов по динамике активности по общему количеству поданных законопроектов / Groups of regions according to the dynamics of activity by the total number of submitted bills
|
Группы регионов |
Количество регионов |
«До-Ковид» (01.04.2018 – 31.03.2020) |
«Ковид» (01.04.2020 – 31.03.2022) |
Изменение от периода «До-Ковид» к периоду «Ковид» |
«Пост- Ковид» (01.04.2022 – 18.01.2024) |
|
Увеличили активность |
29 |
57 |
125 |
Увеличение в 2,2 раза |
74 |
|
Снизили активность |
49 |
315 |
125 |
Сокращение в 2,5 раза |
158 |
Таблица 7 / Table 7
Группы регионов по динамике активности по общему количеству поданных законопроектов в отношении законопроектов по социальной политике / Groups of regions according to the dynamics of activity by the total number of submitted bills in relation to bills on social policy
|
Группы регионов |
Количество регионов |
«До-Ковид» (01.04.2018 – 31.03.2020) |
«Ковид» (01.04.2020 – 31.03.2022) |
Изменение от периода «До-Ковид» к периоду «Ковид» |
«Пост- Ковид» (01.04.2022 – 18.01.2024) |
|
Увеличили активность |
29 |
9 |
34 |
Увеличение в 3,8 раза |
7 |
|
Снизили активность |
49 |
47 |
17 |
Сокращение в 2,5 раза |
20 |
Оценка связи пандемии на основе официальной статистики по зарегистрированным смертям с изменением тематической ориентации законопроектов регионов, а именно с увеличением доли законопроектов по социальной политике (табл. 5), не дает такой же четкой картины. Значения коэффициентов ниже, и значимый только один. Однако если использовать не ранговую корреляцию Спирмена, а корреляцию Пирсона, что до некоторой степени оправдано (данные по статистике смертности за 2021 и 2022 годы имеют нормальное распределение), то результаты при сохранении той же логики получают бо ́ льшую определенность. Коэффициенты корреляций значений смертности на сентябрь 2021 года и сентябрь 2022-го со значениями долей социальных законопроектов в период с апреля 2021 года вырастают до 0,3 и выше и становятся значимыми. При этом связь сохраняется и в постковидный период.
Таким образом, можно сделать вывод, что негативное влияние пандемии на регионы (в значениях удельной смертности) по всей совокупности регионов связано с сокращением активности в целом по законопроектам и одновременным увеличением доли законопроектов по социальной тематике. Однако данная связь не очень сильная.
Более наглядной эту логику можно сделать, если выделить две группы регионов, одна из которых увеличила активность в ковидный период, а другая – снизила, и сопоставить изменение их активности по законопроектам в целом с изменением активности по законопроектам социальной направленности (табл. 6 и 7).
Таблица 6 демонстрирует, что большинство регионов снизили свою активность в ковидный период – 49 против 29 регионов, которые ее увеличили8. При этом соотношение изменения в этих группах по модулю сопоставимо: в одной группе увеличение в 2,2 раза, в другой уменьшение в 2,5 раза.
Однако изменение активности этих групп по законопроектам социальной направленности выглядит совсем по-другому (табл. 7). Регионы, которые подали больше законопроектов в ковидный период, чем в доковидный, сделали это в немалой степени за счет законопроектов по социальной тематике – их количество в этой группе выросло в 3,8 раза. А субъекты Российской Федерации, которые сократили общую активность, пропорционально же сократили активность по законопроектам по социальной политике – тоже в 2,5 раза.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном исследовании было проанализировано влияние пандемии COVID-19 на активность российских регионов по использованию права законодательной инициативы на федеральном уровне. На основе сведений о поданных субъектами Российской Федерации законопроектах были протестированы теоретические предположения о том, что пандемия должна была привести к сокращению общего количества законопроектов, изменению их тематики, а наиболее заметно эти изменения должны были проявиться в отношении регионов, сильнее других затронутых пандемией.
Предположения в целом подтвердились. Российские регионы сократили свою активность сильнее других крупных субъектов (групп субъектов) права законодательной инициативы – Правительства Российской Федерации, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. При этом, в отличие от других СПЗИ, у регионов в совокупности резко выросла доля законопроектов социальной направленности. Связь пандемии с кросс-региональными вариациями в целом соответствует этой же логике, но с ограничениями, возможно связанными с характером данных, которые были использованы для оценки связи, – данных официальной статистики по зарегистрированной смертности.
В целом можно говорить, что российские регионы избрали разные стратегии адаптации к кризису. Если часть их них резко сократила активность из-за изменения приоритетов и переадресации ресурсов, то другая, напротив, увеличила активность, и прежде всего за счет законопроектов в сфере социальной политики (в широком смысле). Это, в свою очередь, углубляет наше понимание характера использования субъектами Российской Федерации своего права законодательной инициативы на федеральном уровне: оно используется в том числе как инструмент практического решения стоящих перед регионом проблем и задач.
Список литературы Законодательные инициативы российских регионов на федеральном уровне в условиях пандемии COVID-19
- Гельман В. Я. Недостойное правление» в условиях внешнего шока: случай COVID-19 // Политическая наука. 2022. № 2. С. 34-52. http://doi.org/10.31249/ poln/2022.02.02.
- Гурвич Е. Т., Краснопеева Н. А. Формирование структуры расходов региональных бюджетов // Вопросы экономики. 2024. № 1. C. 5-32. https://doi. org/10.32609/0042-8736-2024-1-5-32.
- Декальчук А. А. Эволюция понятия «внешний шок» в различных традициях изучения политического курса // Политическая экспертиза: ПОЛИ-ТЭКС. 2014. Т. 10, № 1. С. 208-226.
- Соколов Б. О., Завадская М. А. Индивидуальный опыт первой волны пандемии COVID-19 и политическая поддержка в России (по материалам опроса «Ценности в кризисе») // Полис. Политические исследования. 2023. № 4. С. 152-167. https://doi.org/10.17976/jpps/2023.04.11.
- Сулимов К. А. Оспаривание vs коррекция: динамика активности российских регионов в использовании обращений в Конституционный суд и законодательной инициативы на федеральном уровне // Ars Administrandi (Искусство управления). 2020. Т. 12, № 4. С. 556-576. https://doi.org/10.17072/2218-9173-2020-4-556-576.
- Сулимов К. А. Регионализм как драйвер активности европейских регионов в отношениях с центром // Полис. Политические исследования. 2022. № 6. С. 38-54. https://doi.org/10.17976/jpps/2022.06.04.
- Федорова Е. А, Губанов А. А. Эффективность проектов государственно-частного партнерства в период пандемии COVID-19 // Финансы: теория и практика. 2024. Т. 28, № 3. С. 6-18. https://doi.org/10.26794/2587-5671-2024-28-3-6-18.
- Alcantara C., Broschek J., Nelles J. Rethinking multilevel governance as an instance of multilevel politics: A conceptual strategy // Territory, Politics, Governance. 2016. Vol. 4, № 1. P. 33-51. https://doi.org/10.1080/21622671.2015.1047897.
- Arkturk S., Lika I. Varieties of resilience and side effects of disobedience: Cross-national patterns of survival during the coronavirus pandemic // Problems of Post-Communism. 2022. Vol. 69, № 1. P. 1-13. https://doi.org/10.1080/10758216.2021. 1894405.
- Behnke N., Mueller S. The purpose of intergovernmental councils: A framework for analysis and comparison // Regional and Federal Studies. 2017. Vol. 27, № 5. P. 507-527. https://doi.org/10.1080/13597566.2017.1367668.
- Boin A., McConnell A., Hart P. Governing the pandemic: The politics of navigating a mega-crisis. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. 130 p.
- Edelman M. The symbolic uses of politics. Champaign: University of Illinois Press, 1985. 232 p.
- Finke P., Souris A. The politics of legislative initiatives in the German Bundesrat // Revista Cuadernos Manuel Giménez Abad. 2019. № 18. P. 7-19.
- Hájek L. Regional legislative initiatives in the Czech Republic // The Journal of Legislative Studies. 2024. P. 1-21. https://doi.org/10.1080/13572334.2024.2378551.
- Hooghe L., Marks G., Schakel A. H. et al. Measuring regional authority: A post-functionalist theory of governance. Vol. I. Oxford: Oxford University Press, 2016. 708 p. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198728870.001.0001.
- Hooghe L., Marks G. Unraveling the central state. But how? Types of multi-level governance // American Political Science Review. 2003. Vol. 97, № 2. P. 233-243. https://doi.org/10.1017/S0003055403000649.
- Klink van B. Symbolic legislation: An essentially political concept // Symbolic legislation theory and developments in biolaw / Ed. by B. van Klink, B. van Beers, L. Poort. Cham: Springer, 2016. P. 19-35. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33365-6_2.
- Laruelle M., Alexseev M., Buckley S. et al. Pandemic politics in Eurasia: Roadmap for a new research subfield // Problems of Post-Communism. 2021. Vol. 68, № 1. P. 1-16. https://doi.org/10.1080/10758216.2020.1812404.
- Mendelberg T. Status, symbols, and politics: A theory of symbolic status politics // RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences. 2022. Vol. 8, № 6. P. 50-68.
- Mueller S., Mazzoleni O. Regionalist protest through shared rule? Peripherality and the use of cantonal initiatives in Switzerland // Regional and Federal Studies. 2016. Vol. 26, № 1. P. 45-71. https://doi.org/10.1080/13597566.2015.1135134.
- Nikitin B. V., Zamyatina N. Y. Waves of the COVID-19 pandemic in Russia: Regional projection // Regional Research of Russia. 2023. Vol. 13. P. 271-286. https:// doi.org/10.1134/S2079970523700703.
- Noble B. Regional legislatures and national lawmaking // The Journal of Legislative Studies. 2019. Vol. 25, № 1. P. 143-147. https://doi.org/10.1080/13572334.2019. 1570597.
- Obrist B., Pfeifer C., Henley R. Multi-layered social resilience: A new approach in mitigation research // Progress in Development Studies. 2010. Vol. 10, № 4. P. 283-293. https://doi.org/10.1177%2F146499340901000402.
- Palermo F. Beyond second chambers: Alternative representation of territorial interests and their reasons // Perspectives on Federalism. 2018. Vol. 10, № 2. P. 49-70.
- Parra Gómez D. La facultad autonomica de iniciar leyes estatales, una perspectiva comparada, Revista D'estudis // Autonrmics I Federals. 2016. № 24. P. 155-192.
- Sanjaume-Calvet M., Paneque A. Shared or self-rule? Regional legislative initiatives in multi-level Spain, 1979-2021 // South European Society and Politics. 2023. Vol. 28, № 1. P. 75-100. https://doi.org/10.1080/13608746.2023.2228099.
- Schakel A. H. Applying multilevel governance // Handbook of research methods and applications in political science / Ed. by H. Keman, J. Woldendorp. Cheltenham: Edgar Elgar, 2016. P. 97-110. https://doi.org/10.4337/9781784710828.00015.
- Schakel A. H., Hooghe L., Marks G. W. Multilevel governance and the state // Oxford handbook of transformation of the state / Ed. by S. Leibfried, E. Huber, J. Stephens. Oxford: OUP, 2015. P. 269-285. https://doi.org/10.1093/ oxfordhb/9780199691586.013.14.
- Sears D. O., Lau R. R., Tyler T. R. et al Self-interest vs. symbolic politics in policy attitudes and presidential voting // American Political Science Review. 1980. Vol. 74, № 3. P. 670-684. https://doi.org/10.2307/1958149.
- The forum of federations handbook of fiscal federalism / Ed. by J.-F. Tremblay. Cham: Springer Nature, 2023. 483 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97258-5.
- Ugues A., Vidal X. M., Bowler S. Los congresos estatales y la política federal en México: State legislatures and federal policymaking in Mexico // The Journal of Legislative Studies. 2017. Vol. 23, № 4. P. 594-613. https://doi.org/10.1080/ 13572334.2017.1394740.