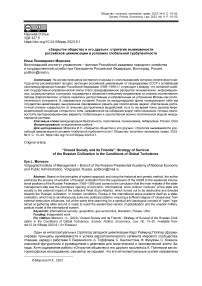«Закрытое общество и его друзья»: стратегия выживаемости российской цивилизации в условиях глобальной турбулентности
Автор: Морозов И.Л.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 9, 2023 года.
Бесплатный доступ
На основе принципов системного подхода и с использованием историко-генетического метода автор рассматривает процесс эволюции российской цивилизации от сверхдержавы СССР к ослабившей свои международные позиции Российской Федерации (1985-1999 гг.) и приходит к выводу, что основной ошибкой государственно-управленческой элиты стало преждевременное раскрытие экономических, информационных, социокультурных «контуров» государства и общества к внешнему воздействию со стороны коллективного Запада (Евроатлантика), которое оказалось деструктивным и направленным на устранение Москвы как геополитического конкурента. В современных условиях Россия на международной арене позиционирует себя как государство-цивилизация, вынужденная одновременно решать две политические задачи: обеспечение достаточной степени «закрытости» от внешних деструктивных воздействий, но в то же время поиск духовно-мировозренческой концепции «открытого» типа, направленной на собирание вокруг себя союзников, готовых противостоять вестернизированному варианту глобализации и однополярной военно-политической модели международной системы.
Международная безопасность, геополитика, геоэкономика, либерализм, Россия, сша
Короткий адрес: https://sciup.org/149144008
IDR: 149144008 | УДК: 327.5 | DOI: 10.24158/pep.2023.9.1
Текст научной статьи «Закрытое общество и его друзья»: стратегия выживаемости российской цивилизации в условиях глобальной турбулентности
Один из интеллектуальных стратегов западной цивилизации Карл Раймунд Поппер сформулировал принципы выживаемости и успеха евроатлантического сегмента мирового сообщества, ставшие, наряду с работами З. Бжезинского, А. Тоффлера, С. Хантингтона, Ф. Фукуямы, С. Хокинга, классикой футурологии и руководством к действию для политической и экономической элиты Запада. Хотя содержание работы «Открытое общество и его друзья» мыслилось К. Поппером как историософское исследование, сам автор не скрывал, что его интеллектуальные усилия направлены
на сохранение и укрепление Западного общества, территориально совпадающего с ореолом демократии (Поппер, 1992: 7).
Либеральная демократия, как политическая система с рыночной моделью экономики, способна прогрессировать лишь при наличии определённых условий, при соблюдении ведущими акторами мировой арены прозаданных «правил игры». Ключевым правилом здесь является принцип неэквивалентного обмена (между рабочим и работодателем, между производителем и потребителем товара, между мировыми экономическими лидерами и мировой периферией и т. д.), который и обеспечивает рост капитала, его перераспределение и концентрацию. Неэквивалентный обмен скрывается, «микшируется» различными знаково-символьными и идеологическими образами, «отключающими» рационалистическое мировосприятие экономических процессов объектом воздействия, который в ходе обмена теряет больше, чем приобретает, обеспечивая за счёт расходования своих внутренних резервов и ресурсов рост и благополучие реципиента.
В качестве рабочих инструментов «микширования» используется широкий набор: от воздействия на психику человека (массовая культура, конструирование историко-политических мифов), до стратегии создания управляемого хаоса в недрах конкурирующих с Западом цивилизаций с последующей «помощью» по выходу из режима хаоса на выгодных для заказчика условиях. Проводимый через полосу кризиса и социально-государственного полураспада независимый автаркический национальный конструкт посредством управляемых извне воздействий трансформируется до приемлемых параметров и на «выходе» из кризиса, когда его политическая и экономическая элита начинает пренебрегать национальными интересами своего народа и соглашается занять уготованное государству место в международном разделении труда. Данный процесс иллюстрируется судьбой СССР, за несколько лет проделавшего путь от контролирующей половину мира сверхдержавы – экспортёра промышленного оборудования, сложной гражданской и военной техники, услуг (советники и специалисты, образование для граждан стран «третьего мира») в мировой «бензогазовый бак», в котором угасали все остальные отрасли производства, кроме добывающей в топливно-энергетическом комплексе.
«Открытым обществам» К. Поппера, ратующим за «прозрачность» и единство всего мира (отметим, что открыты они, как правило, лишь в одну сторону, изощренно блокируя движение любых товаров, рабочей силы или капиталов, способных подорвать позиции своих внутренних производителей), исторически противостоят «закрытые» геонациональные образования, довольно устойчивые по отношению к информационно-манипулятивным воздействиям со стороны глобализирующейся демократии благодаря пассионарным идеологиям (рационалистическим, как в СССР, ирра-ционалистически-мистическим, как в германском Третьем рейхе, или религиозно-экстремистским, как в ряде «стран-изгоев» современного мира).
Как способ выхода из грядущего ресурсного и социального тупика цивилизационного развития Запада основой внешнеполитического и экономического курса США стала концепция глобализации – превращение всего мира в единую структуру, существующую по общим правилам, регулируемую (прежде всего в плане добычи/распределения энергоресурсов, валютных спекуляций и манипулирования инвестиционными потоками и санкционными инструментами) из единого центра. Глобализация трактуется западными мыслителями как активизация торговых, финансовых, информационных и культурных взаимодействий, обусловленных в первую очередь экономическими причинами, в целях преодоления разрыва между богатыми и бедными народами.
Предполагается, что результатом подобных усилий станет объединение человечества, усвоение людьми универсальных демократических ценностей, преодоление взаимной вражды, повышение управляемости общепланетарных политических и социальных процессов. Сторонники данной концепции последовательно отстаивают теорию, согласно которой традиционные нации-государства в современных условиях утратили историческую актуальность и должны сойти с политической сцены, уступив часть суверенитета наднациональным структурам (прежде всего в вопросах валютного регулирования, движения капитала и рабочей силы, контроля над «правами человека», «чистотой» политических выборов и т. д.). Отказ от предлагаемых правил игры со стороны какого-либо из акторов мировой системы может рассматриваться как рецидив «имперских амбиций», открывающих для коллективного Запада право применения принудительных мер к оппоненту.
Российский философ Александр Панарин, занимавшийся осмыслением механизмов вестернизированного варианта глобализации (Панарин, 2004: 264–322), прогнозировал, что к началу XXI века в мире произойдёт постепенное размывание национальных культур и формирование некоей универсальной культуры мировой элиты, параллельно с созданием упрощённой универсальной культуры для народных масс. Масскульт будет способен перешагивать этнические, политические и религиозные границы цивилизаций, постепенно ослабляя и отменяя их. В результате миллиарды людей, утратив свою идентичность, мировоззренчески трансформируются в «детей всего мира», морально свободных от обязательств служения своим народам, своим государствам и готовых менять локации проживания и трудовой деятельности вслед за глобальной экономической и политической конъюнктурой. Как только это произойдёт, государства-нации-автаркии утратят ресурс сопротивления «мировому сообществу», понимаемому как выстроенная и управляемая коллективным Западом система военно-политических и экономических глобальных сетей с взаимозависимостью включённых в них акторов. Наглядный пример работы подобного механизма даёт сравнительный анализ мобилизационных возможностей СССР в 1941–1945 годы и Российской Федерации с началом Специальной военной операции (СВО) в Украине. Если в первом случае СССР в начальный период войны понёс колоссальные людские, экономические и территориальные потери, но даже в тяжелейших условиях оказался способен провести мобилизацию всех видов ресурсов, обеспечившую победу, то Россия в 2022 году в несопоставимо более выгодных для себя условиях оказалась не способна выставить на поле боя равную своему украинскому противнику по численности армию, а российская военная промышленность испытала проблемы со своевременным насыщением войск новейшими образцами вооружения и военной техники, зато в новостной информационный поток плотно вошёл термин «релоканты» – граждане России, покинувшие страну с началом СВО по экономическим или иным личным соображениям из-за ужесточения санкций со стороны коллективного Запада.
Ценности разработанной Западом элитарной культуры с последней четверти XX века также становились приоритетными для элит всё большего числа стран мира, которые всё дальше в культурно-мировоззренческом плане отрывались от своего народа и тяготели к личному встраиванию в западное культурно-экономическое пространство. Если в Российской империи или в СССР первых периодов государственно-управленческая элита рефлексировала себя в рамках своего государства, то утвердившиеся у власти с начала 90-х годов ХХ века политические и бизнес-элиты воспринимали весь мир как поле деятельности некоего глобального «клуба господ», личное членство в котором надо заслужить, даже пожертвовав ради «входного билета» суверенитетом собственных государств. Разумеется, процесс вестернизации мировоззрения советской элиты начался задолго до 90-х годов. Характерно, что во времена политического режима И.В. Сталина сыновья высокопоставленных партийных функционеров поступали в военные училища или технические институты. Например, технико-конструкторские специальности были у сына Н.С. Хрущёва – Сергея, у сына Л.П. Берии – Серго, оба родных и один приёмный сыновья И.В. Сталина окончили военные училища. В последующем у подрастающего поколения советской элиты особым спросом стали пользоваться вузы, дающие ориентированные на зарубежную деятельность специальности (дипломатия, международная журналистика, внешняя торговля и т. д.). С момента крушения СССР российская элитарная молодёжь уже открыто приступила к встраиванию в западное жизненное пространство, а с началом СВО в зарубежные страны перебрались и бывшие государственные деятели высшего звена, в том числе допущенные к государственной тайне самого высокого уровня (например, вице-премьеры А.Б. Чубайс, А.Г. Хлопонин, А.В. Дворкович1).
Процесс глобализации можно представить как завершение (перевод из латентной фазы в открытую) и попытку необратимого закрепления экономической революции, утвердившей как следствие введения Бреттон-Вудской валютной системы перерождение мировой экономики из суммы связанных товарообменом независимых национальных хозяйств, вынужденных конкурировать и договариваться между собой, в единую производственную зону с единым принципом специализации труда, где обращение товаров, услуг, капиталов, людей и информации подвержено не стихийно-рыночным принципам, а глобальному управлению и планированию. Причём локальные, ква-зинациональные сегменты этой системы уже не смогут отказываться от запланированной им роли («фронтир – пушечное мясо» в борьбе против очагов нестабильности, беспокоящих «цивилизованное человечество», международный могильник ядерных отходов, гигантский цех, воплощающий в себе вредное, но необходимое для прогресса загрязняющее промышленное производство, сырьевой придаток и т. д.). Характерна в этом отношении судьба современной Украины, демографическим ресурсом которой коллективный Запад ведёт прокси-войну против Российской Федерации, долгосрочные последствия которой очевидны даже для украинских экспертов2, но правящая элита вынуждена смириться с отведённой её народу ролью.
Концепция глобализации встречает в современном мире активное противодействие. «Мировая периферия» сопротивляется культурному, экономическому, а в ряде случаев и прямому военному вторжению со стороны стран Запада разными методами, вплоть до военных переворотов и действий повстанческих движений. В рамках самой западной цивилизации тоже далеко не все акторы разделяют приверженность к будущей картине глобального мира.
Главным аргументом теоретиков глобализации является утверждение, что данный процесс способствует постепенному преодолению экономического неравенства на планете, то есть глобализация выгодна как раз беднейшим народам, а не богатейшим. Однако статистические данные достаточно давно позволили сделать противоположный вывод: «…государства, население которых составляет 19 % мирового, «съедают» 96 % прямых международных инвестиций; на их долю приходится сегодня 75 % мирового экспорта» (Борисюк, 2005: 61).
Способствует ли глобализация снижению политической напряжённости в международной системе, сокращению военных конфликтов? Эмпирика и здесь даёт отрицательный ответ, более того, глобализация привнесла в международные отношения совершенно новые конфликтогенные факторы: стремление поставить под вопрос внутренний суверенитет национальных государств, присвоить право диктовать народам некие «универсальные» социально-культурные и политикоэкономические модели. Примером американского стратегического мышления «раскройщика миров» служит скандально известная работа З. Бжезинского ещё 90-х годов (Бжезинский, 1998), адресованная, что характерно, американским студентам-международникам. Но американская внешняя политика породила различные формы сопротивления себе, вплоть то генерации широкой сети международного терроризма. Проект «Исламское государство» (ИГИЛ)1 явился прямым следствием американского военного вторжения в Ирак. Другим следствием стал жёсткий ответ России в феврале 2022 года на приближение инфраструктуры НАТО к её границам, когда все возможности дипломатического диалога с Западным альянсом Москвой были исчерпаны.
Не может не тревожить и тот фактор, что все военные конфликты и столкновения последних десятилетий, инициированные США и их союзниками как операции по защите прав человека, пришлись именно на нефте-газоносные регионы планеты, как в случае с Ираком и Ливией, или на пути действующих или потенциальных нефте-газопроводов, как в случае с Афганистаном и Югославией/Сербией (Колон, 2002: 365–401). Российские аналитики прямо указывали на неудобное для Запада обстоятельство: «Терроризм – враг Запада в конкретном смысле, но и «союзник» в политико-историческом: без него политическая глобализация шла бы медленнее, и, возможно, по иным траекториям» (Косолапов, 2004: 13).
Однако отвлечёмся от политической конкретики и попробуем выявить негативные последствия глобализации на футурологическом уровне. Без выхода в космос цивилизация самоактиви-рует процессы деградации, влекущие человечество к неизбежной будущей гибели в результате глобальной катастрофы. Причина в истощении природных ресурсов планеты со всеми сопутствующими проблемами (Паршев, 2002: 17–18). О том, что космическая экспансия единственно приемлемый для нас вектор выживания, предупреждали именно российские мыслители: К. Циолковский и русские космисты XIX–начала ХХ вв. До 70-х – начала 80-х годов ХХ века человечество продвигалось как раз в направлении космической экспансии, интеллектуально и технологически возглавляемой Советским Союзом. Но затем повсеместно возобладали принципы, олицетворяющие стремление глобального бизнеса к извлечению краткосрочной прибыли и, по возможности, избегание долгосрочных финансовых вложений в «нерентабельные сферы» на благо будущих поколений, интерес к космосу на Западе стал гаснуть и активизировался в наши дни только как вынужденный ответ на успехи китайской космонавтики, а также России, которая, несмотря на сложный период СВО, приступила к возрождению программы изучения Луны2.
Американцы по факту ещё с 90-х годов XX века стали сворачивать свою космическую экспансию. Хотя президентская администрация Дж. Буша-младшего в 2001–2009 годы периодически оглашала планы организации пилотируемых полётов на Марс, но всё закончилось популистскими лозунгами. Кроме того, в обстановке колоссальной нагрузки на бюджет, создаваемой необходимостью держать полноценные воинские контингенты в Ираке, Афганистане, финансировать работоспособность военных баз по всему миру, восстанавливать прибрежные районы страны после ураганов, которые, не исключено, возникают как расплата нарушения природно-климатического баланса на Земле в ходе индустриального витка развития человечества, подобные декларации не могли быть претворены в реальность.
Рискнём выдвинуть парадоксальный тезис, согласно которому история человечества свидетельствует, что тоталитарные политические режимы (так называемые «закрытые общества») более склонны к глобальным долгосрочным мессианским проектам «во благо» будущего человечества, чем нацеленные на текущие корыстно-коммерческие интересы демократические политии. Разумеется, видение этого будущего в различных тоталитарных идеологиях может быть весьма причудливым, утопическим и даже радикально антигуманным, а попытки реализации могут вести к ничем не оправданным человеческим жертвам. Тоталитарные режимы основаны на идеологическом каркасе и сильны именно поддержкой большинства населения, готового терпеть материальные лишения и даже жертвовать своими жизнями ради легендарного, предельно мифологизированного «светлого завтра», плодами которого лично воспользоваться не придётся.
Либерально-рыночные демократические политические режимы нацелены на получение непосредственной выгоды, по определению не поощряют «выбрасывания денег на ветер». Каждый доллар в идеале должен приносить отдачу в виде прибыли, желательно в режиме «здесь и сейчас». Благотворительные программы крупного бизнеса существуют, но и носят рекламный характер и уж точно не ведут к сокращению прибыли владельца капиталов.
Обеспокоенность западных аналитиков по поводу будущего своей цивилизации обозначилась ещё несколько десятилетий назад (Голуб, 2023). Например, план «Ковчег», как один из вариантов реализации снятия угрозы – «Золотой миллиард» берёт под контроль полезные ископаемые планеты, оттесняя от них всех остальных, и самоизолируется от оставшегося человечества, что дало бы Западу резервное время в 100–150 лет на поиск альтернативных энергетических технологий.
Попытки встраивания в глобализирующиеся мегатренды вестернизации с принятием предлагаемых Западом правил игры, советским и затем российским руководством последовательно предпринимались на протяжении нескольких десятилетий, начиная с 1985 года, но по своим последствиям оказались едва ли не катастрофическими – распад СССР подрыв исторического культурномировоззренческого фундамента российской цивилизации. Выяснилось, что новый элемент, принимаемый в вестернизированную систему, сможет занять в ней только строго контролируемую и довольно невыгодную нишу, да и то на условиях самоограничения своего суверенитета и ликвидации стратегического оружия.
Прежде чем устремляться во Всемирную торговую организацию, открывать свои внутренние рынки, Россия, используя своё уникальное географическое и энергетическое положение, должна была на переходный период стать «закрытым обществом» – отмобилизованным в рамках своих границ эффективным национальным организмом и жёстким «торговцем-переговорщиком» на дипломатическом поле, отстаивающим свои национальные, а не общеглобальные интересы. Но стать «закрытым обществом» не в форме реинкарнации сталинской тоталитарной модели, а особой формой государства-цивилизации1, чьи информационно-идеологические, экономические и военно-политические контуры устойчивы к попыткам внешнего воздействия, обладающей государственноуправленческой элитой, движимой категориями национальных интересов, но в то же время объективно выстраивающей сотрудничество с дружественными акторами международной системы.
Теоретически сценариев укрепления международной роли России за последние десятилетия было разработано много, от умеренных и долгосрочных, до радикальных, решительно и быстро меняющих расстановку фигур на международной шахматной доске. Однако истёкшие десятилетия были упущены для их реализации. Россия не выстроила экономику высокого передела (производить и направлять на внешний рынок готовую продукцию, а не природные ресурсы), не выстроила альтернативную мировой долларовой валютно-экономическую систему, не взяла курс на укрепление устойчивости национальной валюты через её обеспечение золотым запасом государства. Теперь подобные проекты приходится реализовывать в чрезвычайных условиях экономической блокады и горячей прокси-войны с коллективным Западом. Как отмечает российский политолог проф. А.В. Баранов: «Специальная военная операция 2022 г. стала катализатором ценностных изменений, назревавших в России в течение длительного времени» (Баранов, 2003: 9). Российско-украинский конфликт стал лишь верхним видимым пластом более фундаментального процесса возвращения к незападному миру «свободы, достоинства, самостоятельности… справедливой доли в мировом богатстве» (Добрин, 2023: 54).
Метафорически отвечая Фрэнсису Фукуяме (Фукуяма, 2004: 7–9), провозгласившему «конец истории» как торжество демократии в либерально-рыночном западном издании (действительно, коллективный Запад добился точки своего наивысшего могущества и торжества, и с этих мировоззренческих позиций вполне понятно его рефлекторное стремление законсервировать статус-кво навечно) можно отметить, что история, как поступательное движение цивилизационно-культурного развития, кончилась для евроатлантической цивилизации, но никак не для России, не для других национальных геополитических акторов, приступивших к разработке самостоятельных цивилизационных проектов.
Список литературы «Закрытое общество и его друзья»: стратегия выживаемости российской цивилизации в условиях глобальной турбулентности
- Баранов А.В. Социокультурная интеграция российского общества под влиянием Украинского кризиса 2013–2022 гг. и задачи политики идентичности // Управленческое консультирование. 2023. № 1. С. 10–23. https://doi.org/10.22394/1726-1139-2023-1-10-23.
- Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы / пер. с англ. М., 1998. 254 с.
- Борисюк В.И. Консерватизм эпохи глобализма: смена или сохранение нормообразующих парадигм? // Полития. 2005. № 1. С. 40–63.
- Голуб Ю., Шенин С. Трансатлантизм в контексте заката глобализации: дискуссии в США // Мировая экономика и международные отношения. 2023. Т. 67, № 8. С. 60–69. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2023-67-8-60-69.
- Дробинин А.Ю. Образ многополярного мира // Россия в глобальной политике. 2023. T. 21, № 2. С. 54–62.
- Колон М. Нефть, PR, война. Глобальный контроль над ресурсами планеты. М., 2002. 415 с.
- Косолапов Н.A. Свобода и несвобода в глобальном миропорядке // Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой политики. 2004. Т. 2, № 3(6). С. 4–17.
- Панарин А. Стратегическая нестабильность в ХХI веке. М., 2004. 640 с.
- Паршев А. Почему Америка наступает. М., 2002. 370 с.
- Поппер К. Открытое общество и его враги : в 2 т / пер. с англ. под общ. ред. В. Н. Садовского. М., 1992. Т 1. 448 с.
- Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / пер. с англ. М., 2004. 588 с.