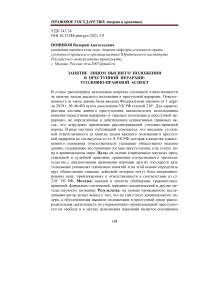Занятие лицом высшего положения в преступной иерархии: уголовно-правовой аспект
Автор: Новиков Валерий Анатольевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Актуальные вопросы развития отраслевого законодательства
Статья в выпуске: 3 (65), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены актуальные вопросы уголовной ответственности за занятие лицом высшего положения в преступной иерархии. Ответственность за такое деяние была введена Федеральным законом от 1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ путем дополнения УК РФ статьей 210¹. Для характеристики состава данного преступления законодателем использованы понятия «преступная иерархия» и «высшее положение в преступной иерархии», не определенные в действующих нормативных правовых актах, что затрудняет применение рассматриваемой уголовно-правовой нормы. В ряде научных публикаций отмечается, что введение уголовной ответственности за занятие лицом высшего положения в преступной иерархии не согласуется со ст. 8 УК РФ, которая в качестве единственного основания ответственности указывает общественно опасное деяние, содержащее все признаки состава преступления, а не статус лица в криминальном мире. Цель: на основе современных научных представлений и судебной практики, сравнения отечественного законодательства с аналогичными правовыми нормами других государств дать толкование указанных оценочных понятий и на этой основе определить круг общественно опасных действий, которые могут быть инкриминированы лицу, привлекаемому к ответственности в соответствии со ст. 210¹ УК РФ. Методы: анализа и синтеза, обобщения, сравнительно-правовой, формально-логический, юридико-догматический и другие методы научного познания. Результаты: на основе проведенного исследования автор делает вывод о том, что не сам статус криминального лидера, а обусловленная высшим положением в преступной среде распорядительная деятельность по упорядочению организованной преступности на свободе и в местах исполнения наказаний является основанием ответственности в соответствии со ст. 210¹ УК РФ. Также обозначен примерный круг лиц, которых следует рассматривать в качестве субъектов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 210 и ст. 210¹ УК РФ.
Преступная иерархия, высшее положение в преступной иерархии, преступное сообщество, преступная организация, организованная преступность, "вор в законе"
Короткий адрес: https://sciup.org/142232976
IDR: 142232976 | УДК: 343.34
Текст научной статьи Занятие лицом высшего положения в преступной иерархии: уголовно-правовой аспект
Преступность в Российской Федерации приобретает все более опасные организованные формы. Руководство криминальными объединениями сосредоточено в руках лиц, обладающих определенным статусом в среде профессиональных преступников. Благодаря своим лидерским качествам, а нередко и интеллектуальным способностям, уголовные авторитеты организуют и направляют деятельность лиц, которые в преступной иерархии имеют более низкий статус.
Руководители организованной преступности, как правило, лично не участвуют в совершении планируемых преступлений, вследствие чего их привлечение к уголовной ответственности проблематично. Имея доступ к значительным денежным средствам и иным материальным ресурсам, регулярно поступающим в фонд взаимопомощи в криминальной среде, а также получая доходы от легального бизнеса, они предпочитают не рисковать своей свободой. Их деятельность в преступных сообществах в основном имеет организационный и распорядительный характер. Для обеспечения собственной безопасности проводится работа, направленная на установление коррупционных связей в правоохранительных органах и судах, продвижение своих представителей в органы государственной власти и управления.
На вершине организованной преступности находятся так называемые «воры в законе» – идеологи преступного образа жизни и хранители воровских традиций. Находясь на свободе, они вовлекают в совершение преступлений лиц молодого возраста, внедряют в их сознание воровские убеждения и тем самым подготавливают благоприятную почву для воспроизводства организованной преступности. В местах лишения свободы они подчиняют своей воле осужденных, отрицательно настраивая их по отношению к администрации исправительных учреждений, притесняют и дискредитируют лиц, вставших на путь исправления. «Воры в законе» выступают в качестве своеобразных «третейских судей», разрешая конфликты, периодически возникающие между криминальными сообществами и их участниками.
С целью усиления борьбы с деятельностью главарей организованной преступности был принят Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ1. В пояснительной записке к проекту данного закона, в частности, отмечается, что благодаря своему положению в преступной иерархии лидеры преступных сообществ (преступных организаций), как правило, уходят от уголовной ответственности. При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена. С учетом этого было предложено дополнить УК РФ статьей 210¹, устанавливающей ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Как справедливо отмечают В.Н. Бурлаков и В.Ф. Щепельков, появление в УК РФ ст. 210¹ УК РФ является результатом эволюции организованной преступности, которая достигла высшей фазы своего развития [1, с. 469].
Понятие «занятие высшего положения в преступной иерархи» не ново для отечественного уголовного законодательства. Федеральным законом от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ2 в ст. 210 УК РФ была включена часть 4, установившая ответственность за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и 1¹ данной статьи, лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.
Прошло более десяти лет, но данная норма так и не заработала в полную силу. Практика привлечения лидеров организованной преступности к ответственности по ч. 4 ст. 210 УК РФ за указанный период времени представлена лишь единичными судебными решениями.
Так, по приговору суда Ч. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 163, ч. 4 ст. 210 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима. По эпизоду обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ, суд, обосновывая занятие подсудимым высшего положения в преступной иерархии, в частности, отметил в приговоре, что Ч., являясь так называемым «вором в законе» и занимая в преступной иерархии высшее положение, создал на территории Алтайского края преступное сообщество, состоящее из нескольких организованных групп1.
Понятия «преступная иерархия» и «высшее положение в преступной иерархии» являются оценочными, так как они не определены в нормативных правовых актах. Данное обстоятельство существенно усложняет процессуальную деятельность по привлечению лидеров организованной преступности к ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 210 и ст. 210¹ УК РФ. В связи с этим Т.В. Якушева отмечает, что термин «преступная иерархия» имеет криминологическое происхождение и не вполне пригоден для уголовно-правового регулирования ответственности [2, с. 729].
В работах криминологов под преступной иерархией понимается своеобразный табель о рангах для лиц, исповедующих преступную идеологию и придерживающихся норм и правил поведения, принятых в преступном сообществе. В связи с этим В.В. Бычков отмечает, что самую высшую ступень в криминальной среде занимают «воры в законе», которые вправе делегировать свои полномочия особо доверенным лицам – «положенцам» или «смотрящим». Субъектами преступлений, предусмотренных ст. 210¹ УК РФ, он предлагает считать и этих лиц, а также держателей фондов взаимопомощи в криминальной среде и «блатных» [3, с. 29, 31].
В преступной иерархии после «воров в законе» на более низкой ступени действительно стоят «положенцы» и «смотрящие». «Положе-нец» – уголовный авторитет, назначаемый «вором в законе» для осуществления от его имени контроля над определенной территорией или объектом (исправительной колонией, следственным изолятором и др.). Он вправе осуществлять распорядительные действия, регулирующие вопросы внутренней жизни криминальной среды. «Положенец» организует и контролирует сбор средств в фонд взаимопомощи в криминальной среде, назначает «смотрящих» за отдельными населенными пунктами или объектами, разрешает конфликты, которые не в силах урегулировать «смотрящие».
«Блатными» в местах лишения свободы называют лиц, которые в повседневной жизни придерживаются воровских понятий, отрицательно настроены по отношению к администрации исправительных учреждений, являются злостными нарушителями режима отбывания наказания.
Из числа наиболее авторитетных «блатных» в местах заключения назначаются «положенцы» и «смотрящие».
Появление в УК РФ нормы об ответственности за занятие лицом высшего положения в преступной иерархии вызвало обоснованную критику со стороны ряда авторов научных публикаций. Суть претензий состоит в том, что даже высокий статус лица в криминальном мире не может служить основанием уголовной ответственности. Так, по справедливому замечанию А.В. Шеслера, введение ответственности за принадлежность к лидерам криминальной среды противоречит ст. 8 УК РФ, которая в качестве основания уголовной ответственности предусматривает совершение общественно опасного деяния, а не социальный статус лица [4, с. 118] .
Н.Г. Кадников отмечает, что дополнение УК РФ статьей 210¹ является признанием того, что наряду с деянием, содержащим признаки состава преступления, основанием уголовной ответственности является и опасное состояние личности. Имеет место нежелательный переход к положениям социологической школы уголовного права [5, с. 53].
Нельзя не согласиться с мнением А.В. Бриллиантова и А.Д. Щербакова, которые полагают, что в УК РФ включена категория, происходящая из тюремной субкультуры, неизвестная отечественному законодательству, вследствие чего трудно понять, что представляет собой лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, а также определить критерии деяния как преступного [6, c. 93].
Фундаментальное положение, основанное на идеях классической школы уголовного права и закрепленное в ст. 8 УК РФ, о том, что основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, игнорировать нельзя. Следовательно, необходимо разобраться в том, какие общественно опасные действия могут охватываться составом преступления, предусмотренного ст. 210¹ УК РФ.
В связи с этим представляется интересной точка зрения А.В. Ката-нова и Р.Р. Румянцевой, которые считают, что объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 210¹ УК РФ, образует деятельность, связанная с занятием лицом высшего положения в преступной иерархии [7, с. 58].
Верховный Суд РФ в п. 24 Постановления Пленума от 10 июня 2010 г. № 12 обратил внимание на то, что, решая вопрос о субъекте преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ, судам следует устанавливать занимаемое этим лицом положение в преступной иерархии.
Для этого необходимо выяснять, в чем конкретно выразились действия по созданию или руководству преступным сообществом, координации преступной деятельности, созданию устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разделу сфер преступного влияния и преступных доходов, а также иные действия, свидетельствующие о его авторитете и лидерстве в преступном сообществе1.
По нашему мнению, данное разъяснение Пленума Верховного Суда РФ представляется не совсем точным. Занятие лицом высшего положения в преступной иерархии предлагается устанавливать на основе анализа объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом, координация действий, создание устойчивых связей между организованными группами и т. п.).
В связи с появлением в УК РФ ст. 210¹ для квалификации деяния по ч. 4 ст. 210 УК РФ необходимо установить, что гражданин уже ко времени совершения данного преступления занимал высшее положение в преступной иерархии, к примеру, прошел инициацию и был объявлен «вором в законе». Принятие Федерального закона от 1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ привело к тому, что преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 210 УК РФ, во всех случаях будет образовывать реальную совокупность с преступлением, предусмотренным ст. 210¹ УК РФ. Если следовать разъяснению Пленума Верховного Суда РФ, которое дано в п. 24 Постановления от 10 июня 2010 г. № 12, то виновное лицо понесет наказание дважды за одни и те же действия – по ч. 4 ст. 210 и по ст. 210¹ УК РФ. В связи с изменением уголовного закона п. 24 необходимо исключить из данного Постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Высшее положение в преступной иерархии лицо занимает не по причине руководства организованной группой, бандой или преступной организацией, а вследствие особого статуса в криминальном мире, который формируется в течение всей жизни и обусловлен множеством обстоятельств (наличием судимостей за ранее совершенные преступления, временем, проведенным в местах лишения свободы, поведением в местах заключения, строгим следованием «воровскому закону» и т. п.).
Принятию лица в касту «воров в законе» предшествует его многолетняя противоправная деятельность. И это не только совершение пре- ступлений, за которые уголовный авторитет уже понес или должен понести наказание. Как уже отмечалось, лидеры преступного мира помимо совершения конкретных деяний, предусмотренных Особенной частью УК РФ, осуществляют также организационно-управленческую деятельность, которую можно охарактеризовать как стратегическое руководство уголовной средой на свободе и в местах отбывания наказания. В исправительных учреждениях они подчиняют себе осужденных, требуя от них соблюдения воровских понятий, поощряют нарушения режима отбывания наказания, притесняют активистов и иных лиц, вставших на путь исправления.
Применительно к ст. 210¹ УК РФ под занятием лицом высшего положения в преступной иерархии следует понимать в целом его управленческую деятельность, направленную на обеспечение функционирования организованной преступности. Поэтому для признания такого лица виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210¹ УК РФ, необходимо установить, что ко времени задержания оно имело влияние на лиц с более низким статусом в преступной иерархии и проявляло активность в распорядительной деятельности, направленной на поддержание организованной преступности.
На наш взгляд, этот вопрос правильно урегулирован в УК Украины. Законом от 4 июня 2020 г. № 611-IX он был дополнен статьями 255¹, 255², 255³. В частности, ст. 255¹ предусмотрена ответственность за установление или распространение в обществе преступного влияния. В соответствии с примечанием 1 к ст. 255 УК Украины под преступным влиянием понимают любые действия лица, которые благодаря его авторитету, другим личным качествам способствуют, побуждают, координируют или иным образом воздействуют на преступную деятельность, а также действия, состоящие в распределении средств, имущества или других активов (доходов от них) с целью обеспечения такой деятельности. Наказание установлено в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Те же действия, совершенные в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах или в исправительных учреждениях, влекут наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Субъектом данного преступления является лицо, которое имеет повышенное преступное влияние, в том числе статус «вора в законе». В соответствии с примечанием 2 к ст. 255 УК Украины под лицом, имеющим повышенное преступное влияние, в том числе находящимся в статусе «вора в законе», понимают лицо, которое благодаря своему авторитету, другим личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние.
В тех случаях, когда в силу возраста, болезни или по другим причинам «вор в законе» отошел от дел, его формальное пребывание в этом статусе в силу малозначительности деяния может и не представлять общественной опасности, что является основанием для прекращения уголовного преследования в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ и п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
В борьбе с «ворами в законе» положительных результатов удалось добиться правоохранительным органам Республики Грузия, и этот опыт заслуживает внимания. 20 декабря 2005 г. был принят Закон «Об организованной преступности и рэкете». Одним из достоинств данного документа является то, что в нем определены следующие основные понятия: «воровское сообщество», «деятельность воровского сообщества», «член воровского сообщества», «вор в законе», «воровская разборка», «воровской сход». В соответствии со ст. 3 данного закона «вором в законе» считается лицо, которое в любой форме осуществляет управление или (и) организацию воровского сообщества или с использованием методов деятельности воровского сообщества осуществляет управление или (и) организацию определенной группы лиц. Как видно из определения, общественная опасность нахождения в статусе «вора в законе» связывается с его управленческой и организационной деятельностью в криминальных сообществах. Такая трактовка вполне согласуется со ст. 7 УК Грузии, в которой сказано, что основанием уголовной ответственности является противоправное и виновное деяние.
Законом от 28 апреля 2006 г. УК Грузии был дополнен статьей 223¹, предусматривающей ответственность за членство в воровском сообществе (ч. 1) и пребывание в положении «вора в законе» (ч. 2). За пребывание в положении «вора в законе» установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом, что согласно ч. 3 ст. 12 УК Грузии соответствует категории тяжкого преступления.
Своевременные законодательные решения и воля политического руководства Грузии позволили правоохранительным органам этого государства привлечь к уголовной ответственности значительное число «воров в законе». Остальные были вынуждены покинуть пределы республики, без особых проблем обосновавшись в Российской Федерации и на территории других государств.
Отличительной чертой законодательства Грузии является то, что оно ориентировано исключительно на борьбу с «ворами в законе». В ст. 210¹ УК РФ для характеристики субъекта преступления используется другое понятие – «лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии». Понятие «вор в законе» является условным. Уголовные авторитеты, заслужившие такой статус, называют себя «ворами», «бродягами». В дореволюционной России они именовались «иванами». В советское время их стали называть «паханами». Терминология, используемая для обозначения лиц данной категории, большого значения не имеет. Не исключено, что практика применения ст. 210¹ УК РФ со временем приведет к тому, что уголовная терминология полностью выйдет из оборота или будет заменена другими словами.
Введение уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии вызвало в криминальных кругах некоторую тревогу, поскольку стало представлять угрозу для личной свободы. В соответствии со ст. 210¹ УК РФ суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. В связи с этим М.В. Максименко отмечает, что осужденные в местах заключения стали реже использовать понятия «вор в законе», «бродяга», «положенец», «смотрящий», заменяя их другими словами [8, с. 53].
Пока не ясно, как введение уголовной ответственности за занятие лицом высшего положения в преступной иерархии повлияет на поведение уголовных авторитетов, но очевидно, что число желающих стать частью преступной «элиты» должно поубавиться. До недавнего времени «воры в законе» не скрывали свой статус от правоохранительных органов. Во время задержания оперативными сотрудниками или на допросе у следователя они, как правило, сообщали о своей принадлежности к воровской «элите», прекрасно осознавая, что это им ничем не грозит. С появлением ст. 210¹ УК РФ их поведение несколько изменилось. Они стали уклоняться или отказываться от ответа на данный вопрос, что уже является положительным признаком. Последовательная и системная деятельность правоохранительных органов по привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210¹ УК РФ, должна если не разрушить полностью, то существенно ослабить систему управления, которая долгие годы выстраивалась «ворами» в преступной среде.
Как уже отмечалось, в преступной иерархии организационнораспорядительные полномочия осуществляют в основном три категории уголовных авторитетов: «воры в законе», «положенцы» и «смотрящие».
Указанных лиц и следует рассматривать в качестве специального субъекта преступления, предусмотренного ст. 210¹ УК РФ, с некоторыми уточнениями, которые касаются «смотрящих» в местах лишения свободы, то есть лиц, отвечающих за организацию доставки денег и продовольствия из фондов взаимопомощи в криминальной среде, поскольку таких «смотрящих» вряд ли можно причислить к категории лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.
В связи с этим для привлечения к ответственности по ст. 210¹ УК РФ следователь и суд не должны ограничиваться только установлением статуса лица в преступной иерархии. Необходимо обосновать, что виновное лицо, пользуясь своим положением, активно осуществляет управленческую деятельность в воровских сообществах на свободе и в местах заключения, участвует в выработке и распространении директивных решений, требует их выполнения от остальных участников организованных преступных формирований, а также отрицательно настроенных осужденных в исправительных учреждениях.
Принимая во внимание, что в ст. 210¹ УК РФ законодатель не дает исчерпывающего описания общественно опасного деяния и других признаков состава преступления, ограничиваясь только указанием на занятие лицом высшего положения в преступной иерархии, диспозиция данной уголовно-правовой нормы видится как бланкетная. Для правильного понимания оценочных понятий «преступная иерархия», «лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии» необходимо принять закон «О противодействии организованной преступности», который бы помимо прочего содержал и определения основных понятий, позволяющих правоохранительным органам осуществлять уголовное преследование криминальных авторитетов по ч. 4 ст. 210 и ст. 210¹ УК РФ.
Список литературы Занятие лицом высшего положения в преступной иерархии: уголовно-правовой аспект
- Бурлаков В.Н., Щепельков В.Ф. Лидер преступного сообщества и основание ответственности: постмодерн в уголовном праве // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13, № 3. С. 465-476.
- EDN: OQQZEE
- Якушева Т.В. Противодействие преступным сообществам (преступным организациям) и лидерам криминальной среды: деструктивные тенденции, поиск новых законодательных решений // Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14, № 5. С. 723-734.
- EDN: VEJRSW
- Бычков В.В. Уголовно-правовая характеристика высшего положения в преступной иерархии (статья 210¹ УК РФ) // Вестник Московск. акад. Следств. комитета Российской Федерации. 2019. № 3. С. 26-31.
- Шеслер А.В. "Вор в законе": криминальный статус или основание уголовной ответственности // Вестник Кузбасск. ин-та. 2020. № 1 (42). С. 110-123.
- Кадников Н.Г. Опасное состояние личности как основание уголовной ответственности // Союз криминалистов и криминологов. 2020. № 1. С. 50-55.
- EDN: WXMURI
- Бриллиантов А.В., Щербаков А.Д. Теория опасного состояния личности: шаг вперед или два назад? // Государство и право. 2020. № 10. С. 90-99.
- EDN: QEFDRG
- Катанов А.В., Румянцева Р.Р. Проблемы определения общественной опасности деяния, предусмотренного статьей 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Актуальные вопросы деятельности уголовно-исполнительной системы на современном этапе: проблемы и перспективы: сб. науч. тр. / под общ. ред. А.А. Середина. Вологда, 2019. С. 57-61.
- EDN: GFQJUI
- Максименко С.В. О некоторых терминах, используемых для раскрытия сущности преступной иерархии // Противодействие преступности в современных условиях: уголовно-правовые, криминологические и психолого-педагогические аспекты: сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), 20 окт. 2020 г. / отв. ред. Р.В. Новиков. Пермь, 2020. С. 52-56.