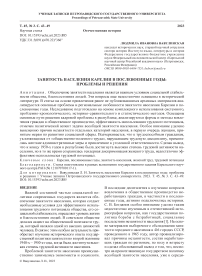Занятость населения Карелии в послевоенные годы: проблемы и решения
Автор: Вавулинская Людмила Ивановна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 3 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Обеспечение занятости населения является важным условием социальной стабильности общества, благосостояния людей. Эти вопросы еще недостаточно освещены в исторической литературе. В статье на основе привлечения ранее не публиковавшихся архивных материалов анализируются основные проблемы и региональные особенности занятости населения Карелии в послевоенные годы. Исследование подготовлено на основе комплексного использования системного, проблемно-хронологического, историко-сравнительного и статистического методов. Освещены основные пути решения кадровой проблемы в республике, анализируются формы и методы вовлечения граждан в общественное производство, эффективность использования трудового потенциала, отмечен политический аспект задачи всеобщей занятости населения. Особое внимание уделено выяснению причин незанятости отдельных категорий населения, в первую очередь женщин, принятым мерам по развитию социальной сферы. Подчеркивается, что к трудоспособным гражданам, уклоняющимся от «общественно-полезного труда», нарушавшим трудовую дисциплину, применялись жесткие административные меры и привлечение к уголовной ответственности. Сделан вывод, что к концу 1950-х годов в республике была достигнута высокая степень трудовой активности населения, но в то же время сохранялась гендерная дискриминация женского труда, недостаточно эффективно использовался трудовой потенциал.
Карелия, послевоенные годы, занятость населения, женский труд, трудовой потенциал
Короткий адрес: https://sciup.org/147240125
IDR: 147240125 | УДК: 331.5(091)(470.22)"366" | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.885
Текст научной статьи Занятость населения Карелии в послевоенные годы: проблемы и решения
Важной составной частью социальной политики современных государств является обеспечение занятости населения, которая создает необходимые условия для эффективного использования трудового потенциала общества, его социальной стабильности, определяет уровень жизни и благосостояния людей. В советском обществе делался акцент на общественной полезности труда, который являлся одной из высших ценностей человека. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение исторического опыта государственной политики занятости во второй половине 1940-х – 1950-е годы, когда была достигнута высокая степень трудовой активности населения.
Проблемой занятости населения преимущественно занимались экономисты и социологи.
В последние десятилетия к изучению вопросов вовлечения в общественное производство неработающих граждан, в частности в послевоенные годы, активно подключились историки. С. В. Богданов особое внимание уделил таким недостаточно изученным в отечественной историографии вопросам, как государственная политика борьбы с безработицей, социальные последствия незанятости населения [1]. На основе материалов выборочного обследования занятости городского населения в 416 городах СССР, проведенного в 1965 году, автор проанализировал причины незанятости, состав неработающих граждан по регионам, по полу и возрасту и сделал обоснованный вывод о том, что, несмотря на провозглашенную государством политику всеобщей занятости населения, уже к середи- не 1960-х годов серьезно усложнились проблемы трудоустройства отдельных социально-демографических групп [2: 43].
Политика Советского государства в сфере трудовых отношений в послевоенные годы рассматривается в статьях М. А. Клиновой [5], В. Н. Ма-мяченкова [6], С. А. Папкова [8], Ш. Фицпатрик [13], в которых показана неэффективность мер внеэкономического принуждения к труду. Подавляющее большинство работ посвящено проблемам использования женского труда [3], [7], [11], [12]. Анализируя занятость женщин в различных сферах экономики, авторы подчеркивают сохранявшуюся гендерную дискриминацию женщин в трудовой сфере.
В местной историографии проблемы занятости населения в послевоенные годы затрагиваются в работах И. П. Покровской [9], [10], Е. И. Клементьева и А. А. Кожанова [4].
Несмотря на имеющуюся историческую литературу по проблемам занятости населения в послевоенные десятилетия, не получили достаточного освещения региональные особенности государственной политики в этой области, политический аспект задачи всеобщей занятости, формы и методы вовлечения граждан в общественное производство, эффективность использования трудового потенциала.
В статье на основе имеющейся литературы и привлечения ранее не публиковавшихся архивных материалов анализируются основные проблемы и региональные особенности занятости населения республики в послевоенные годы. Исследование подготовлено на основе комплексного использования системного, проблемно-хронологического, историко-сравнительного и статистического методов.
***
В послевоенные годы в Карелии особенно обострилась проблема нехватки кадров. Для обеспечения выполнения принятого на 1946 год плана восстановления и развития народного хозяйства республики по расчетам Статистического управления требовалось привлечь 25 тысяч трудоспособных граждан из других регионов страны. Острый недостаток рабочей силы, особенно в лесной промышленности, вынуждал власть привлекать в качестве временной, сезонной рабочей силы прежде всего местное колхозное крестьянство, мобилизуемое в порядке платной трудовой повинности, а также использовать труд военнопленных, спецпоселенцев и заключенных. В строительных организациях республики военнопленные и заключенные составляли примерно две трети от общего числа рабочих1.
С конца 1940-х годов основными путями решения кадровой проблемы в республике стали промышленное и сельскохозяйственное переселение и организованный набор рабочей силы из других областей и республик СССР. Плановое распределение трудовых ресурсов в условиях индустриальной модели освоения Севера, сформировавшейся в 1930-е годы, позволяло сравнительно быстро восполнить недостаток кадров. Только в 1949–1955 годах в лесную промышленность, совхозы и колхозы Карелии было переселено более 23,5 тысячи семей2. Однако, вследствие суровых климатических условий, ограниченных возможностей ведения личного подсобного хозяйства, бытовой неустроенности, значительная часть переселенцев возвращалась на прежнее место жительства. На эти цели расходовались существенные средства. В то же время, по материалам единовременного учета сельского населения Карелии, на 1 января 1949 года было учтено 35 484 человека в возрасте 16–49 лет, не работавших в государственных, кооперативных предприятиях и организациях и не учившихся в учебных заведениях (при общей численности сельского населения всех возрастов 174 336 человек3). Из них 9488 мужчин (27 %) и 25 996 женщин (73 %). Еще выше был процент неработающих женщин среди сельского населения по группе хозяйств рабочих и служащих и кооперированных кустарей: из 15 489 человек в возрасте 16–54 лет – 12 764 человека, или 82,4 %, а в ряде районов – до 88–97 %4. На основании этих данных начальником Стат-управления республики был сделан вывод о том, что план оргнабора рабочей силы на 1950 год может быть выполнен за счет внутренних резервов5.
Для определения причин незанятости населения в государственных и кооперативных организациях в 32 сельсоветах республики были проведены проверки. Они показали, что в подавляющем большинстве случаев к числу неработающего населения относились женщины, имевшие малолетних детей, а также находившиеся на иждивении мужей. Так, в Парандовском сельсовете Сегозерского района из 609 рабочих, служащих и кооперированных кустарей в возрасте 16–54 лет не работали 145 человек (24 %), из них 45 % – женщины, имевшие детей, и 45 % – женщины, не имевшие малолетних детей, а также инвалиды и учащиеся6. Многие неработающие женщины содержали земельный участок, скот, покос, занимались рыболовством, продавали молоко. В Кемском районе на территории четырех сельсоветов насчитывалось 415 граждан в возрасте от 16 до 54 лет, не принимавших участия в общественном производстве, из них 64 человека (15,4 %), преимущественно молодежь в возрасте от 16 до 20 лет, проживали на средства своих родителей7.
Результаты проверки были обсуждены на заседании ЦК Компартии республики 25 мая 1950 года, принявшем постановление «О вовлечении в производство дополнительных трудовых резервов из местного населения». Вопросу занятости населения было придано политическое значение и подчеркнуто, что «значительное количество населения, не работая нигде, раздувают личное хозяйство, культивируют частнособственнические тенденции, тем самым разлагающе действуют на колхозников»8. Руководителям районных партийных комитетов и исполкомов советов было предписано изучить все хозяйства рабочих и служащих с целью уточнения неработающего населения и вовлечения его в производство; установить контроль за правильностью обложения налогами и госпоставками сельскохозяйственной продукции хозяйств, имеющих скот, огороды, орудия лова рыбы. Министерство социального обеспечения обязано было усилить контроль за трудоустройством инвалидов, способных к труду, и организовать производственные мастерские в домах инвалидов9.
Выполняя постановление ЦК Компартии республики, органы социального обеспечения вовлекли в 1950 году в учебу разного вида 392 инвалида. В Валаамском доме инвалидов была организована портняжная мастерская с охватом обучением 15 человек и пошивочно-ремонтная мастерская, где обучались 5 человек. Остальные инвалиды по мере сил привлекались к работе в подсобном хозяйстве и для обслуживания других инвалидов. В учебно-производственных мастерских общества слепых на клейке пакетов, щипке слюды, выделке щеток работал 31 человек, а Общество глухонемых устроило на работу на промышленные предприятия республики 383 человека. К началу 1951 года в республике трудились 26 375 человек, или 73,4 % общего количества всех групп и категорий инва-лидов10. Принимались и меры по предоставлению посильной работы пенсионерам. Для вовлечения населения в трудовую деятельность широко использовалась массовая агитация через партийные и профсоюзные органы, средства массовой информации и различные направления художественной культуры. Закреплению кадров на крупных предприятиях способствовали предоставление работникам жилья, мест в детских садах, льготных путевок в дома отдыха и санатории и др. В то же время вплоть до апреля 1956 года сохранялась судебная ответственность рабочих и служащих за самовольный уход с предприятий и учреждений и за прогул без уважительной причины. К трудоспособным гражданам, «уклонявшимся от общественно-полезного труда, занимавшимся бродяжничеством и попрошайничеством», применялись жесткие меры. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 19 июля 1951 года «О мерах по ликвидации и предупреждению нищенства» инвалидов и престарелых, а также трудоспособных, но не имевших работы, передавали на попечение социальных органов, которые занимались их трудоустройством или направляли под опеку родственникам и в дома инвалидов. Органам милиции вменялось в обязанность усилить борьбу с лицами, занимавшимися на базарах под видом нищенства разного рода вымогательством подаяний у трудящихся11. Наиболее широкий размах борьба с «антиобщественными элементами, тунеядцами» приобретет в 1960-е годы.
Особое внимание уделялось вовлечению в общественное производство самой многочисленной группы незанятого населения – женщин. На предприятиях осуществлялись мероприятия по созданию условий для повышения квалификации женщин, получения ими второй профессии, совмещения учебы и работы. Однако интеграция женщин в производство была сопряжена с целым рядом проблем и требовала ускоренного развития учреждений социальной сферы, позволяющих совмещать семейные обязанности и занятость. Во многих населенных пунктах республики не было ни детских садов, ни яслей, планы по строительству детских учреждений систематически не выполнялись. Строительство велось в основном в городской местности. Несмотря на то что к концу 1950-х годов число детских дошкольных учреждений увеличилось по сравнению с 1945 годом в 1,8 раза (с 426 до 768), а число детей в них – в 2,4 раза (с 14,9 до 35,1 тыс.)12, общее количество мест в яслях еще не достигло даже довоенного уровня: в 1940 году – 8502 места, в 1958 году – 8118 мест13.
В целях оказания помощи работающим женщинам, имевшим детей, в школах создавались группы продленного дня для учащихся 1–4-х классов, была развернута сеть школ-интернатов. Профсоюзные организации предприятий и учреждений оказывали материальную помощь семьям с низким доходом, матерям-одиночкам, во многих профкомах были организованы комиссии по работе среди детей, различные детские кружки, летние пионерские лагеря.
В послевоенные годы в Карелии увеличилось количество предприятий розничной торговли и общественного питания: с 1447 в 1945 году до 3723 в 1960 году, или в 2,6 раза14. Во всех совхозах республики на центральных фермах имелись предприятия общественного питания (за исключением двух совхозов – «Заря» и «За-онежский»), а в некоторых совхозах работали по 2–3 столовых. Расширилась медицинская помощь матери и ребенку. Увеличилась численность родильных домов, женских и детских консультаций, были приняты важные решения по социальной поддержке материнства и детства. Острой проблемой для работающих женщин оставалась слабо развитая сфера быта. В начале 1960-х годов трудящимся предоставлялись услуги в 426 населенных пунктах, что составляло только 27 % к их общему количеству, причем на жителя сельской местности приходилось услуг в 4 раза меньше, чем в городской местности15.
К концу 1950-х годов произошли существенные изменения в распределении рабочих и служащих республики по отраслям народного хозяйства. Доля занятых в промышленности возросла с 1945 по 1958 год с 25,5 до 40,7 %, соответственно несколько уменьшилась занятость в строительстве, на транспорте, в связи, торговле и общественном питании, органах государственного управления16.
Целенаправленная политика государства по вовлечению женщин в производство в 1950-е годы привела к значительному расширению сферы женского труда в республике. Если в 1939 году женщины составляли 37,3 % всех работающих (кроме членов семей, занятых в личном подсобном сельском хозяйстве), то в 1959 году – 47,6 % [9: 177]. Повышение уровня занятости женщин способствовало формированию нового качества женской рабочей силы, для которой профессиональный труд стал неотъемлемой характеристикой. Среди занятых в отраслях материального производства доля женщин за 1939–1959 годы повысилась с 36,1 до 42,2 %, а в отраслях непроизводственной сферы на долю женщин в 1959 году приходилось свыше трех четвертей работающих, в то время как в 1939 году – немногим более половины [9: 177]. В ряде отраслей в 1960 году женщины составляли подавляющее большинство работающих: в общественном питании – 94 %, здравоохранении, физкультуре и социальном обеспечении – 93 %, торговле – 89 %, народном образовании и культуре – 85 %17. Доля женщин среди лиц, занятых умственным трудом, в Карелии в 1959 году составила 65 %, в то время как по СССР – 54 %18. Та- ким образом, отмечена тенденция к феминизации интеллектуального труда. Однако, как и в целом по стране, женщины отставали от мужчин в квалификационном уровне, были задействованы на менее престижных и низкооплачиваемых работах, редко выдвигались на руководящие должности. Так, из занятых в промышленности женщин 67 % работали вручную, без применения машин и механизмов19. Сохранялись высокая загруженность женщин домашним хозяйством, дефицит свободного времени.
В отраслях с преимущественно женской занятостью – легкой, пищевой, образовании, здравоохранении – заработная плата была существенно ниже, чем в тяжелой промышленности, на строительно-монтажных работах, на транспорте. В начале 1961 года среднемесячная зарплата в промышленности составила 112,5 руб., в общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей – 65,9 руб. (65 % к заработной плате в промышленности), в учреждениях здравоохранения, физкультуры, спорта и социального обеспечения – 56,6 руб. (56 %), в торговле – 56,3 руб. (56 %), в общественном питании – 49 руб. (48 %)20.
В конце 1950-х годов крупным резервом увеличения численности работающих в народном хозяйстве республики оставалось трудоспособное население, занятое в домашнем и личном подсобном хозяйстве, которое составляло 48,7 тыс. человек, или 12,5 % населения в трудоспособном возрасте. В подавляющем большинстве это были женщины (около 97 %), из которых более 2/3 имели детей в возрасте до 14 лет [9: 178]. Преобладающая часть возможных резервов рабочей силы проживала в городских поселениях. Для вовлечения в общественное производство женщин, имеющих детей дошкольного возраста, как указывалось в материалах по итогам Всесоюзной переписи населения 1959 года по Карелии, необходимо было значительно расширить существующую сеть дошкольных учреждений, а также развернуть общественное движение женщин-пенсионерок по наблюдению и уходу за детьми работающих женщин21.
На наш взгляд, одной из существенных причин незанятости женщин являлась специфика расселения в республике, характеризующаяся наличием в сельской местности большого количества населенных пунктов с крайне мизерной численностью населения. Наиболее типичными были населенные пункты до 50 жителей, а, например, в Медвежьегорском районе из 367 населенных пунктов 99 насчитывали всего до 10 человек, что затрудняло организацию про- изводственного, жилищного и культурно-бытового строительства22. Кроме того, однобокая специализация хозяйства в лесных поселках, отсутствие работы по специальности вблизи жилья ограничивали возможности применения женского труда.
Среди женщин-иждивенцев почти 14 % составляли лица в возрасте 50–54 лет, при этом свыше 33 % из них не имели детей дошкольного и школьного возраста23. Возможными причинами незанятости этой возрастной категории женщин являлись уход за престарелыми родителями и внуками. К числу неработающих, по материалам переписи, была отнесена также группа лиц, живущая за счет прочих источников средств существования (прежние сбережения, продажа старых вещей, сдача комнат внаем, помощь соседей и т. д.), а также не указавших, за счет чего они живут. Эта группа составляла всего 122 человека (мужчин – 29 и женщин – 93), из которых в городских поселениях проживали 82 и в сельской местности – 40 человек24.
Значительный интерес представляет анализ возрастного гендерного аспекта занятости. Если среди мужчин, не занятых в общественном производстве, наибольшую группу составляли лица в возрасте 16–19 лет (38,1 %), то среди женщин этого возраста – только 3,5 %. В возрасте 20– 29 лет количество неработающих мужчин и женщин различалось незначительно (34,5 и 29,3 %). В то же время в возрасте 30–49 лет не работали 12,4 % мужчин и 53,1 % женщин25, что, по всей видимости, объяснялось занятостью женщин в домашнем и личном подсобном хозяйстве, отсутствием надлежащих условий для устройства на работу, а также сравнительно высоким уровнем дохода главы семьи.
По материалам единовременного выборочного обследования семей рабочих и служащих, проведенного в республике в 1958 году, можно выяснить такой вопрос, как выбор рода занятий в семьях с различным социальным статусом. В семьях, где главой семьи являлся рабочий, 86 % работающих членов семьи также были рабочими, а 14 % – инженерно-техническими работниками, служащими, учителями, медицинскими работниками и т. д. В семьях же, где главой являлся инженерно-технический работник или служащий, 79 % работающих принадлежали к той же категории, что и глава семьи26.
Одной из проблем эффективного использования трудового потенциала, которая в середине 1950-х годов вышла на первый план, стала проблема сокращения административно-управленческого персонала. В письме секретаря Карельского обкома КПСС Л. Лубенникова в Президиум ЦК
КПСС 27 августа 1958 года сообщалось, например, о таких фактах: в лесной промышленности республики один инженерно-технический работник или служащий приходился на 7 рабочих, на Вяртсильском металлургическом заводе – на 5, на Онежском тракторном заводе – на 4,4, в рыбной промышленности – на 1,8 рабочего. Однако сокращение административного штата аппаратными методами привело к росту числа чиновников на уровне предприятий и объединений. В 1958 году по сравнению с 1952 годом произошел значительный рост числа руководителей структурных частей предприятий и организаций и их заместителей (с 2933 до 3778 человек)27.
Другой серьезной кадровой проблемой являлся недостаток квалифицированных кадров в республике. Пополнение состава руководящих кадров и специалистов народного хозяйства работниками, имеющими высшее и среднее специальное образование, позволило улучшить их качественный состав, однако в 1961 году процент практиков в их составе оставался высоким: в промышленности – 41 %, в строительстве – 34 %28.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в послевоенные годы государство проводило целенаправленную политику по вовлечению незанятого населения в общественное производство. Сфера занятости расширялась за счет новых категорий трудящихся, в том числе женщин, трудившихся в домашнем хозяйстве, пенсионеров, инвалидов, учащихся. В целях вовлечения их в производство широко использовались как массовая агитация и пропаганда, так и административные меры. Были предприняты важные шаги по развитию сферы обслуживания, созданию детских садов и яслей, организации свободного времени детей и подростков, позволившие в некоторой степени облегчить положение работающих женщин. Однако сохранялись более низкие по сравнению с мужчинами показатели дохода и престижа, представительство женщин в управлении и на руководящих постах, большая загруженность домашним хозяйством. К концу 1950-х годов была достигнута высокая степень трудовой активности населения республики: 50 %, а среди лиц трудоспособного возраста – 81 % были заняты в общественном производстве, что превышало соответствующие показатели в целом по стране. Среди областей и республик Северо-Западного экономического района Карелия в 1959 году имела самый высокий удельный вес рабочих (72,1 %), в то время как по стране – 48,2 % [10: 85]. Однако трудовой потенциал общества использовался при этом недостаточно эффективно.
Список литературы Занятость населения Карелии в послевоенные годы: проблемы и решения
- Богданов С. В. Кризисные явления в реализации политики всеобщей занятости населения в СССР, 1960-1980-е годы // Историко-экономические исследования. 2011. Т. 12, № 2. С. 41-56.
- Богданов С. В. Государство и трудовые ресурсы в России, конец XIX - конец XX столетия (историко-социальный анализ). М.: Компания КноРус, 2018. 288 с.
- Кабирова А. Ш., Багманова Э. З. Организация системы защиты труда женщин в общественном производстве Татарстана в 1940-1950-е годы // Научный Татарстан. 2010. № 2. С. 35-42.
- Клементьев Е. И., Кожанов А. А. Сельская среда и население Карелии. 1945-1960 гг.: Историко-социологические очерки. Л.: Наука. Ленингр. отдние, 1988. 211 с.
- Клинова М. А. Закрепление кадров в советской индустрии второй половины 1940-х гг.: административное принуждение и (или) материальное стимулирование // Вестник Кемеровского государственного университета. 2018. № 2 (74). С. 24-30.
- Мамяченков В. Н. Политика советского государства в сфере трудовых отношений в 1940-х - начале 1950-х гг.: как заставить людей работать? (на материалах Свердловской области) // Научный диалог. 2017. № 4. С. 168-187.
- Мищенко Т. А. Ценностная мотивация женского труда в контексте советского гендерного порядка (1960-1980-е гг.) // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2012. № 3 (7). С. 225-232.
- Папков С. А. Сталинизм послевоенной эпохи. Принуждение к труду и чрезвычайное законодательство // Азиатская Россия и сопредельные государства: Сб. науч. трудов. Новосибирск: Параллель, 2013. С. 293-304.
- Покровская И. П. Население Карелии. Петрозаводск: Карелия, 1978. 192 с.
- Покровская И. П. Социально-экономическая структура населения Карельской АССР // Вопросы истории Европейского Севера: Межвуз. науч. сб. Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 1976. С. 78-99.
- Ситникова Е. Л. Женская занятость в России: исторические и современные аспекты // Развитие территорий. 2022. № 3. С. 63-70. Б01: 10.32324/2412-8945-2022-3-63-70
- Хасбулатова О. А. Российская гендерная политика в ХХ столетии: мифы и реалии. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2005. 371 с.
- Фицпатрик Ш. «Паразиты общества»: как бродяги, молодые бездельники и частные предприниматели мешали коммунизму в СССР // Советская социальная политика: сцены и действующие лица, 1940-1985. М.: ООО «Вариант», 2008. С. 219-254.