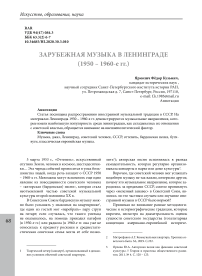Зарубежная музыка в Ленинграде (1950 - 1960-е гг.)
Автор: Ярмолич Фдор Кузьмич
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Искусство, образование, наука
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена распространению иностранной музыкальной традиции в СССР. На материалах Ленинграда 1950 - 1960-х гг. демонстрируются музыкальные направления, которые имели наибольшую популярность среди ленинградцев, как складывались их отношения с советской властью, обращается внимание на внешнеполитический фактор.
Музыка, джаз, ленинград, советский человек, ссср, оттепель, бардовская песня, буги-вуги, классическая европейская музыка
Короткий адрес: https://sciup.org/170173983
IDR: 170173983 | УДК: 94(47) | DOI: 10.34685/HI.2020.30.3.010
Текст научной статьи Зарубежная музыка в Ленинграде (1950 - 1960-е гг.)
5 марта 1953 г., «Оттепель», искусственный спутник Земли, человек в космосе, шестидесятники… Эта череда событий проносится в умах большинства людей, когда речь заходит о СССР 1950 – 1960-х гг. Меломаны могут вспомнить еще одно явление из повседневности советского человека – «авторская (бардовская) песня», которая стала неотъемлемой частью советской музыкальной культуры второй половины XX в.
В Советском Союзе бардовскую музыку можно было услышать у знакомых на квартирнике1, где один из гостей мог «перебрать» пару струн на гитаре; если случалась, что такого умельца не оказывалось, на помощь приходил патефон (в 1950-е гг.) или радиола (в 1960-е гг. она уже не относилась к предмету роскоши и среднестатистическая советская семья могла ее себе позво- лить2); авторская песня исполнялась в рамках самодеятельность, которая регулярно организовывала концерты в парке или доме культуры3.
Впрочем, где советский человек мог услышать подобную музыку не так важно, интересно другое, почему это музыкальное направление, которое зародилось за пределами СССР, смогло проникнуть через «железный занавес» в Советский Союз, являлось ли это частным случаем или звучание иностранной музыки в СССР было нормой?
Принимая во внимание разные методологические и историографические традиции, которые впрочем, несмотря на диаметральность оценок сущности советского государства (тоталитарная концепция американо-европейской историче- ской науки и идея создания «нового человека» советской историографии), сходятся в том, что у страны Советов оказался особый путь развития, который подразумевал определенную закрытость от мира, особенно, капиталистического.
Представители «тоталитарной» теории подчеркивают, что власть полностью контролировала все общественные процессы, поэтому стремилась изолировать человека от каких-либо влияний, противоречащих официальной идеологии; сторонники теории создания «нового советского человека» утверждали, что самое передовое и лучшее в развитии общественных отношений может предложить только социалистическая система, поэтому необходимо создать условия, чтобы влияние иных, в частности, буржуазных элементов, не распространялось на жителей СССР.
Представления и первых, и вторых позволяют сделать вывод, что зарубежная музыкальная культура не могла проникнуть в СССР, либо это происходило в очень ограниченном масштабе. Более того, стремление советской власти ограничить распространение иностранных музыкальных жанров представляется вполне логичным и закономерным, поскольку они оказывали влияние на морально-нравственные основы духовного мира человека, которые, в свою очередь, становились основой формирования политикоидеологических взглядов.
Несмотря на то, что историографии музыкальной советский традиции значительна и освещает историю музыкальных направлений4, влияние политики на их формирование5 и т.д., все же проблема распространения зарубежной музыки в СССР пока еще в исторической литературе не получил должного освещения. Поэтому на материалах Ленинграда 1950 – 1960-х гг. хотелось бы осветить этот аспект советской повседневности.
Изменения политической, экономической, социальной и культурно-психологической6 ситуации в стране влияли на положение зарубежной музыки в СССР. В работе Л.В. Беловинского отмечается, что «в конце 40 – начале 50-х годов ее, даже ограниченная трансляция, например, в пределах клуба или танцплощадки, могла завести радиста далеко: ведь шла борьба с безродным космополитизмом и преклонением перед Западом», но уже «с середины 50-х годов положение с зарубежной музыкой стало быстро изменяться» и в 1960-е гг. «вытесняя и буги-вуги и рок-н-ролл, и так и не привившиеся чарльстон, липси и летку-енку, начал свое победное шествие твист»7.
В Советском Союзе социально-политические и экономические явления не всегда проходили синхронно, многие процессы развивались асинхронно, конечно, не выходя за общие политические и идеологические границы. В какой степен эта специфика оказалась характерной для музыки?
В отличие от ситуации начала 1950-х гг., которую описывает Л.В. Беловинским, в первой половине 1950-х г. ленинградец мог прослушать широкий спектр иностранных музыкальных произведений. В официальном информационном пространстве для него была доступна классическая европейская музыка8. Например, в начале 1951 г. Академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова предоставил возможность ленинградцам насладиться оперой Джакомо Мейербера «Гугеноты» 9
Наряду с разрешенной цензурными органами зарубежной музыкой, житель Ленинграда, несмотря на всю сложность политической ситуа- ции начала 1950-х гг., мог услышать запрещенные в СССР музыкальные направления.
Относительно зажиточная советская семья начала 1950-х гг. могла позволить себе патефон. В монографии А.Г. Митрофанова описывается сюжет: «У Зубковых патефон, слышится шарканье подошв – значит, фокстротируют, писала одна из современниц. … Писатель Александр Рекемчук вспоминал о своем детстве: «У нас, как и у всех достаточных советских людей, конечно, был патефон. … Вот к нему-то из своих дальних странствий Рекемчук и привозил новые пластинки. … пластинки были привезены из-за границы – из Берлина, из Парижа, из Праги, – в доме не делалось особого секрета из того, что отец бывал именно там… Вот эти-то пластинки и собирались послушать гости. Под них же танцевали – фокстрот, танго, чарльстон10 .
Границами коммунальной комнаты или квартиры находящаяся под запретом музыка не ограничивалась. Ее можно было услышать со сцены дома культуры или в городском саду. Например, в 1949 г. без какого-либо разрешение контролирующий органов в клубе завода “Судомех” под видом художественной самодеятельности играл джаз-оркестр, исполняющий западноевропейский и американский фокстрот 11. Более того, в начале 1950-х гг. в кафе, столовых и ресторанах, несмотря на запрет Ленинградского репертуарного комитета, оркестры играли фокстроты и танго12.
Подобные явления не относились к единичным случаям, они оказались настолько распространенными, что стали поводом для ряда статей в периодической печати. Например, в письме читателя газеты «Смена» подчеркивалось, что под рекламой «Вечер танцев» или «Вечер отдыха» часто «кроется засилье танцев Запада», под этим собирательным образом автор письма подраз- умевал быстрые и медленные фокстроты, румбу и танго13.
После смерти Сталина внешняя и внутренняя политика СССР претерпевает изменения. На внешнеполитической арене в середине 1950-х гг. между СССР и западными странами, в том числе и США, отмечается нормализация отношений, это отражается и на советском музыкальной пространстве.
Например, нормализация отношений с ФРГ и США привели к том, что, в сентябре 1955 г. в Ленинграде камерным оркестром из Федеральной Республики Германской был дан первый концерт под руководством Вильгельмом Штрос-сом14, а в 1956 г. в городе гастролировала американская оперная труппа «Эвримен опера» с музыкальным произведением «Порги и Бесс»15.
В середине 1950-х гг. улучшаются взаимоотношения и внутри социалистического лагеря, в частности, с Югославией. Это незамедлительно отразилось и на музыкальной сцене. Вниманию посетителей Центрального парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова летом 1955 г. была представлена череда концертов Югославского ансамбля народного танца16.
В 1960-е гг. посещение иностранными музыкантами Советского Союза становится регулярным и массовым. Например, Ленинград в 1964 г. посетило 127 делегаций (1200 человек) из социалистических и капиталистических стран. Как отмечалось в «Справке о пребывании иностранных гастролеров в Ленинграде в 1964 году»: «значительная часть коллективов и отдельных исполнителей представляли искусство высокого качества реалистического направления и в значительной степени национальные»17.
Следует подчеркнуть, что в отношении классической зарубежной музыки в СССР серьезных барьеров не возникало. Наиболее сложно складывались отношения советской власти с джазом.
В современной литературе распространено мнение, что джазовая музыка на всем протяжении 1950 – 1960-х гг. была гонима. Этот взгляд находит свое отражение в работе Т.И. Баклановой «в 60-е годы развернулась борьба с формализмом и абстракционизмом… Увлечение джазом приравнивалось чуть ли не к предательству. На страницах прессы пестрели лозунги типа «Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продаж». По этой причине… джаз-оркестры вынуждены были переименовывать себя в эстрадные оркестры»18.
Подобная точка зрения характерна и для А.А. Гужаловского. В своей работе он отмечает, что, с одной стороны, на официальном уровне джаз запрещали, но, с другой, он транслировался по радио, звучал в парках, а грампластинки с его звучан ием продавались в магазинах. Более того, демократизация конца 1950-х гг. не изменила официального статуса джазовой музыки, и поэтому он продолжал подвергаться цензурированию19.
Обращение к ленинградскому материалу демонстрирует, что отношение власти к джазу было неоднозначными и противоречивым. Как уже было показано, в начале 1950-х гг. джазовая музыка официально запрещалась, но звучала в Ленинграде.
Не представляется возможным полностью согласиться с мнением А.А. Гужаловского, о влияние «оттепели» на положение джаза. Материалы Ленинграда демонстрируют, что его положение со второй половины 1950-х гг. все же изменяется, он получает возможность официально звучать в советском музыкальном пространстве, но нормой становится систематические критические выпады против него.
Доказательством изменения отношения к джазовой музыки, которое произошло во второй половине 1950-х гг., может служить публикации в перио-
Гажуловский А.А. Красный карандаш: очерки по истории цензуры в БССР. Кн. 2. 1943 – 1991. Минск, 2018. 21
С.311.
дической печати статей и заметок положительного, либо нейтрального характера. Например, в «Вечернем Ленинграде» сообщалось ленинградцам о проведении джазовых концертов: «вчера в Саду отдыха начались гастроли Государственного музыкального ансамбля Польши «Голубой джаз»»20.
Причем это не было разовым явлением. Обзоры и статьи о возможности послушать в общественных местах городе джазовую музыку публиковались регулярно: «нынешний летний сезон на эстраде Сада отдыха стал как бы отблеском ярких огней Московского фестиваля. Не успели отзвучать инструменты французского джаза, как подмостки заняли румынские артисты»21.
Конечно, в отношении джазовой музыки публиковали и критические статьи. Например, в конце 1950-х гг. в периодической печати Ленинграда обсуждалась проблема «диких» и «полудиких» оркестров, которые обрабатывали магнитофонные записи иностранной музыки, как правило, использовали записи американской джазовой музыки. В статье подчеркивалось, что «дикие» оркестры предпочитали играть фокстроты, свинги, рок-п-ролл, буги-вуги, при этом танго, самба, румба, которые уже не пользовались популярностью у слушателей, практически не звучали.
Подчеркивалось, что «манера исполнения «дикого» оркестра антимузыкальна. В ансамблях отсутствуют наиболее мелодичные инструменты – скрипки, кларнеты. В звучании безраздельно господствуют гнусаво завывающие саксофоны (обязательный музыкальный инструмент, природа которого совершенно изуродовала современным джазом), без всякого удержу ревущие медные, оглушительно громыхающие и лязгающие ударные инструменты. Да и внешний облик «артистов», их манера поведения отличаются крайней развязностью и вульгарностью». После такого критического описания, авторы статьи публиковали адреса, где проходили подобные музыкальные концерты: «Организациям, интересующимся или обязанным интересоваться деятельностью «диких» и «полудиких» оркестров, можно рекомендовать следующие, например, адреса: Дом культуры железнодорожников, Дом культуры имени Газа, клуб строителей, клуб швейников, клуб пожарников, клуб МВД, парк имени Бабушкина, некоторые вузы, институты, учреждения, военные и военно-морские училища. Список можно продолжать»22. учреждения, военные и военно-морские училища. Список можно продолжать» . Стоит предположить, что читали статью не только контролирующие организации, но и рядовые ленинградцы, которые могли взять на заметку данные заведения.
Критикуя джазовую музыку, необходимо было создать образ человека, группы людей, которые его слушали, безусловно, у среднестатистического ленинградца такой «любитель саксофона» должен был вызывать определенную неприязнь: «в переполненном зале душно и тесно. Гремит джаз-оркестр. Танцующие пары топчутся, натыкаясь, как слепые, друг на друга. – О любви мы и поем. Фокстрот, – слышится со сцены слащавый голос распорядителя, объявляющего очередной танец. И снова колышется толпа. Мелькают диковинные чубы, фатоватые усики, баки. У некоторых девушек в ушах огромные кольца, сильно декольтированы плечи. Какой-то стиляга надел «золотую» цепочку на шею…»23.
Критические статьи в отношении джазовой музыки публиковала не только ленинградская печать, но всесоюзные издания, в частности, журнал «Клуб»: «пагубно влияют на музыкальные вкусы молодежи широко расплодившиеся в последнее время низкопробные «джазы», культивирующие на клубных вечерах разухабистую, ресторанную музыку. Пошлыми номерами до сих пор еще засорен репертуар не только самодеятельной, но и профессиональной эстрады» 24.
Наступившие 1960-е гг. не внесли определенности в этот вопрос. В начале 1960-х гг. в периодическое печати вместе с негативной оценкой, публиковались и нейтрально-позитивные статьи и заметки: «Кто как, я лично я люблю музыку: и симфоническую, и джазовую, и печенки Эдиты Пьехи, и виртуозную игру Армстронга…. Просил в письме инженер И.И. Петров из Воронежа»25.
Во второй половине 1960-х гг. в периодической печати продолжилась публикация статей с положительными откликами о джазовой музыки. В частности, 14 апреля 1966 г. в газете «Смена» была опубликована статья «Второй джазовый….», в которой отмечалось, что во Дворце культуры им. Газа пройдет второй Ленинградский фестиваль джазовой музыки, организаторами которого выступали городской комитет ВЛКСМ, Ленинградское отделение Союза советских композиторов, Дом художественной самодеятельно и городской джаз-клуб. Вместе с описанием «будней» музыкального мероприятия: как проходил фестиваль, кто принимал в нем участие и т.д., – статья завершалась очень интересной ремаркой: «более двадцати коллективов участвует в фестивали. Хочется, чтобы этот праздник … явился новым крупным шагом по пути становления отечественного джаза…»26.
Несмотря на непростое положение джаза, звуки саксофона продолжали радовать ленинградцев. В 1960-е гг. его играли не только музыканты самодеятельности, но и военные оркестры. Это происходило, несмотря на многолетнее систематические обращения Управления культуры в Политическое управление Ленинградского военного округа: «Управление культуры Ленгорисполкома просит Вас обратить внимание на невыполнение Вашего указания по контролю за выступлениями военных оркестров в эстрадных и джазовых составах на танцевальных площадках клубов и домов культуры города. Письмом от 31 октября 1962 г. … Вами было дано указание о регистрации танцевального репертуара в Отделе музыкальных ансамблей Ленконцерта. Однако, в течение 1966 г. ни один оркестр свой репертуар не зарегистрировал и не представил его на рассмотрение»27.
Несмотря на сложное и противоречивое отношение власти к джазу ко второй половине 1960-х гг. это музыкальное направление стало неотъемлемой частью советской музыкальной культуры. Понимая это, на семинаре секретарей и заведующих идеологическими отделами РК/ГК/ВЛКСМ «Проблема свободного времени и идеологическая работа», проходившем в 1967 г., призывалось при- знать это явление и проводить с ним работу: «Джаз вызывает интерес молодежи поскольку он не представлен на официальной эстраде…. Дефицит является привлекательным. … От этого не надо прятаться. Над этим надо работать»28.
Подобные рассуждения возымели свое действие и в конце 1960-х гг. обозначилась тенденция «легитимизации» джазовой музыки, когда в положение о VI Ленинградском фестивале молодежи и студентов (о правилах художественных конкурсов шестого Ленинградского фестиваля молодежи для коллективов и участников художественной самодеятельности), отмечали джазовые оркестры, котором, как и эстрадным в рамках фестиваля разрешалось выступить с 3 – 5 произведениями, в то время как духовные оркестры, оркестры народных инструментов и ансамбли выступали с 3 произведениями, а для струнных ансамблей и солистов разрешалось продемонстрировать 2 – 3 произведения29.
Зарубежная музыкальная традиция не была чужда СССР. Ее распространению способствовали как внешнеполитические факторы, так и музыкальные предпочтения советского человека.
Список литературы Зарубежная музыка в Ленинграде (1950 - 1960-е гг.)
- Бакланова Т.И. Педагогика художественной самодеятельности. М., 1992.
- Беловинский Л.В. Повседневная жизнь человека советской эпохи. Предметный мир и социальное пространство. М., 2017.
- Васькин А. Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе. М., 2017.
- Гажуловский А.А. Красный карандаш: очерки по истории цензуры в БССР. Кн.2. 1943 - 1991. Минск, 2018.
- Митрофанов А.Г. Коммунальная квартира. Хроника советского быта. М., 2019.
- Нарский И.В. Как партия народ танцевать учила, как балетмейстеры ей помогали и что из этого вышло. Культурная история советской танцевальной самодеятельности. М., 2018.
- Орлова Ю.А. Авторская песня как феномен советской культуры // Теория и практика общественного развития. 2011. №4. С. 120 - 123.
- Цветкова Г.А. Художественная литература на государственной службе: опыт советской культурной политики // Культурное наследие России. №3. 2016. С. 103 - 111.