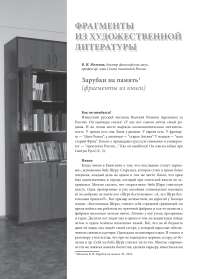Зарубки на память (фрагменты из книги)
Автор: Мельник Владимир Иванович
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Фрагменты из художественной литературы
Статья в выпуске: 1, 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170173754
IDR: 170173754
Текст статьи Зарубки на память (фрагменты из книги)
Как он ошибался!
Известный русский писатель Василий Розанов переживал за Россию. Он однажды сказал: «У нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. У греков есть она. Была у римлян. У евреев есть. У француза — “chere France”, у англичан — “старая Англия”. У немцев — “наш старый Фриц”. Только у прошедшего русскую гимназию и университет — “проклятая Россия…” Как он ошибался! Он совсем забыл про Святую Русь! (С. 3).
Нитки
Когда читаю в Евангелии о том, что «последние станут первыми», вспоминаю бабу Шуру. Старушку, которая стоит в храме более полувека, каждый день на одном и том же месте. Благо, что храм был единственным в городе, который при советской власти не закрывался. Можно сказать, что «перестояла» баба Шура советскую власть. Одна прозорливая и уже покойная схимонахиня называла её по-доброму не иначе как «Шура бестолковая»: «А, это Шура бестолковая пришла!?». Вот пример незаметной, но дорогой у Господа жизни. «Бестолковая Шура» считает себя страшной грешницей: во время войны она работала на чулочной фабрике и как-то вынесла с фабрики несколько мотков ниток. Личико у неё узкое, прозрачное и худое. Десятки лет ходит она в одном и том же выцветшем плаще летом и худом зелёном пальтишке зимой. Всё, что на её бедность дают ей люди, она отдаёт своей сестре, у которой взрослые обеспеченные сыновья и дочери. Один даже на иномарке ездит. И только и разговору у неё всегда, что про не ходящую в церковь сестру, её болезни и пр. Себя же баба Шура считает ни за что. Многие «первые» за эти же полвека нажили богатства, сделали карьеру, известны всем как далеко не бестолковые, а напротив, весьма талантливые люди. Многих из них уже нет. А баба Шура стоит на одном и том же месте под церковной винтовой лестницей — и всё переживает за свои нитки. (С. 3–4).
«Умом Россию не понять…»
Умом Россию точно не понять. Писатель Борис Зайцев рассказывает, как один протестант задумал, было, перейти в Православие. Но так и не перешёл — на России споткнулся. Никак не мог он понять, почему же, если Православие — вера «правильная», Россия Православная так мучается и страдает. «Запад не менее грешен, но не рухнул… Россия сама виновата, что не справилась». Афонский отшельник ему отвечает: «Значит так ей было положено». — «Как же положено, за что же Бог покарал её сильнее, чем другие страны?» — «Потому что возлюбил больше. И больше послал несчастий, чтобы дать поскорее опомниться и покаяться. Кого возлюблю, с того и взыщу, и тому особенный дам путь, ни на чей не похожий… Россия много пережила, перестрадала, многое из земных богатств разорено, но в общем от всего этого она выигрывает». — «Как выигрывает?» — «Другого богатства много за это время дано». И вправду, лишь потом оценим, судьбами миллионов, вошедших в Царство Небесное не по заслугам, — что дано было нам в великие дни разорения и надругательства: наши мученики, страстотерпцы, наши праведники, наши исповедники-страдальцы, многотерпелив-цы, наши юродивые во Христе. А какой нам самим дан великий от Бога дар — веровать, что так и будет!! Доктор-протестант ведь, бедный, ничего не понял — и ушёл от великой трапезы к сухим коркам рационализма. Не вместил. (С. 18–19).
Святая Русь
Сколько на Святой Руси безызвестных среди людей, но заметных у Бога подвижников! Вся культура, весь образ жизни народа, все его жертвы в военной и мирной жизни, всё его мужество — в конечном счёте нужны лишь для того, чтобы побольше было истинно святых людей, подготовленных для Небесного Царствия. Эту истину трудно постигнуть, ибо она познаётся самой жизнью. Не каждому народу это дано. Мне повезло: в одном маленьком, но вошедшем в историю Русской Церкви XX в. храме я был прихожанином много лет и там познакомился с такими людьми, которые хотя и ходят ещё по земле, но давно стали рав-ноангельными по своему житию. Нелегко мне было сойтись с ними: лишь через три года моего хождения в храм стали они со мною беседовать. Одна из них была Анна Алексеевна. Она была — Царствие ей Небесное! — живая легенда, так как в своё время была келейницей архиепископа Иоанна (Братолюбова) и многое бы могла поведать. Но почти ничего не рассказывала и тайны свои унесла в могилу. А запомнилась она мне примером христианской любви. Расскажу лишь один случай. Анне Алексеевне я иногда приносил в храм, зная её бедственное материальное положение, то сахар, то растительное масло, то другие продукты. Денег она не брала. Иногда и она приносила мне подарочек — всё один и тот же: кусочек мыла, завёрнутый в носовой платок. Однажды, незадолго перед нашим расставанием навсегда, снова принесла мне свой скромный подарочек. Я всегда с благоговением брал у неё эти платочки. И дома складывал в ящик под иконами. Однажды в доме кончилось мыло — и я развернул платочек. К удивлению своему, я увидел, что вместе с мылом в платке завёрнуты были 100 рублей. 100 рублей в то время были для пенсионерки немалыми деньгами. В ближайшее воскресенье я подошёл к Анне Алексеевне. Она мне сказала: «Нет, нет, возьмите, это вам от архиепископа Иоанна». Пришлось мне эти деньги взять на духовные нужды. Но каковы бабушки на Святой Руси! Каков народ, в котором они родились и живут! (С. 30–32).
Великий и могучий
Кто-то упорно отучает наших детей от русского языка. Чтобы никому не повадно было даже подумать, что изучать родной язык легко, приятно и полезно, кто-то стал писать учебники по русскому языку языком совсем не русским. В особенности это относится к так называемым «коммуникативной грамматике» и «коммуникативному синтаксису». Нам-то, среднему поколению, повезло, и мы в своё время изучали просто грамматику и синтаксис. А теперь они стали зачем-то «коммуникативными», и одна студентка, делясь своими первыми впечатлениями от нового предмета, сказала: «В общем-то можно приспособиться: та же грамматика, только всё время нужно учитывать, что всё наоборот». Думаю, что «всё наоборот» — это слишком просто и неверно, но как же нужно постараться, чтобы ввести неглупую и вполне здравомыслящую девушку в такой интеллектуальный ступор. А попробуйте разберитесь сами, вот образчик «учёной речи»: «На наш взгляд, выделение субъектных сфер высказываний, выражающих смысл “предположение”, представляется важным, так как это связано с проблемами авторизации и персуазивности. Модальность обусловливает присутствие в разной форме высказывания субъектной сферы говорящего, что влечёт за собой экспликацию модусной рамки, в которой вербализуется способ соотношения высказывания с действительностью». Неужели это написано тем же языком, на котором говорил о русском языке Гончаров: «Ему учатся не по тетрадкам и книгам, в гостиной у папá и мамá — а первый учитель — кормилица со своим агу, агу… и другими междометиями, потом нянька со своими прибаутками и сказками… а затем уже обработанный, книжный, чистый или литературный язык — в образцовых писателях. Стало быть, язык, а с ним русскую жизнь, всасывают с молоком матери — учатся и играют в детстве по-русски, зреют, мужают и приносят пользу по-русски». А после такого «коммуникативного» насилия над психикой и здравым смыслом у любого ребёнка опустятся руки и никогда не возникнет желание изучать язык Пушкина, Тургенева и Толстого. Просто — украли родную речь и приватизировали право её изучать! А нам-то грешным куда податься? На одном научном симпозиуме по русской литературе, в котором мне пришлось участвовать, из рядов любителей запутать всё простое и прекрасное псевдонаучной речью, прозвучало в накале дискуссии в сторону «простецов»: «Руки прочь от русской литературы!» Видно, настало время и для другого лозунга: «Руки прочь от русского языка!» Но ведь другого языка у нас нет… (С. 40–41).
Русский лес
Церковь показывает примеры того, как должны поступать и мирские власти. Архимандрит Евгений, настоятель Чуркинского монастыря (Астрахань), в XIX в. наказал крестьянина, пойманного на монастырской территории с нарубленными свежими деревьями, тем, что заставил его высадить молодые саженцы. Они впоследствии разрослись в тенистую монастырскую аллею. В суд подавать на крестьянина не стал. Исходил из религиозного опыта: после покаяния следует не наказание, но и не всегда благодушное прощение, а — исправление греха. Всем польза. А у нас ныне тюрьмы забиты несчастными людьми, пустившимися на мелкое воровство из-за нужды. Там они зачастую не учатся каяться и исправлять дела рук своих, а лишь ожесточаются. А сколько было бы пользы, если бы каждый, преступивший закон, высадил свою «аллею». А если бы и не только мелкие нарушители, пропадающие в тюрьме, но и крупные, гуляющие на свободе, приведены были к истинному покаянию. И была бы не аллея, а поистине — «русский лес». (С. 93–94).
Пример христианской любви
Иссякает на земле чистая вода, меньше становится чистого воздуха, да и любовь иссякает. Даже христиане теперь зачастую друг друга плохо понимают. И вот вспоминается далёкий XIX в. Русская дипломатическая миссия на фрегате «Паллада» оказалась в Японии, где уже был принят закон: японец, перешедший в христианство, должен быть казнён. Один такой японец, спасаясь от преследования, скрылся у русских. Корабль наш был разбит, на японском берегу строили новый. Отношения с японцами ещё не определились, провизии своей не было, её подвозили японцы. Самим бы впору просить помощи. Русские моряки решились не выдавать христианина (хотя и не православного), несмотря на серьёзные угрозы японцев. Адмирал Путятин приказал в случае необходимости выстроиться в каре, отстреливаться и «погибнуть всем до единого, но не выдавать единоверца»! Вот так понималась христианская любовь русскими людьми. Только такая любовь и может победить мир. Японцы тогда это поняли — и отступились. (С. 106–107).
Смерть и измена
Для наших пращуров смерть не была самым сильным горем. Ибо это горе естественное — и, главное, спасению души не препятствует. Другое дело — отойти от православной веры или предать государя и отечество. Вот это горе. Когда у князя Одоевского умер первенец-сын, царь Алексей Михайлович его утешал: «Князь Никита Иванович! Не оскорбляйся, а токмо уповай на Бога!» И совсем иначе утешал по своей доброте князя Ордина, у которого сын стал изменником родины: «Тебе… больше этой беды вперёд уже не будет: больше этой беды на свете не бывает!» (С. 109–110).
Евгений Поселянин видел главное
Православный писатель Евгений Поселянин был на открытии мощей и прославлении в 1903 г. преподобного батюшки Серафима. Там он увидел, как к раке преподобного восемь крестьян с трудом несли бившегося в их руках немолодого, обросшего волосами мужика, напоминавшего собою страшного гнома из детских сказок. Из утробы его посторонний голос кричал с выражением муки и смятённости: «Выйду, выйду!» У раки он затих и весь напрягся от муки и боли, а когда его приложили, он очнулся и отошёл здоровым. Дальше он затерялся в храме. Оказывается, он уже 30 лет страдал своим недугом, не мог исповедоваться и причаститься, не вынося святыни.
В то время как одни дивились чуду, а другие спешили записать это чудо и спрашивали у крестьянина его имя и место, где он живёт, чуткая душа, Евгений Поселянин подошёл к этому мужику и спросил: натощак ли он ныне? Получив утвердительный ответ, прошёл в алтарь и попросил священника исповедовать мужичка и причастить его. Что и было исполнено. Впервые за 30 лет болящий причастился. Читая книги этого замечательного писателя, всюду видишь его любовь к Богу и людям, какой-то особенный талант душевной чуткости. Среди множества подробностей он всегда видит главное. Как писал, так и жил. Господь послал ему мученическую кончину. (С. 10–11).
Митрополит Питирим
Когда митрополита Питирима отпевали в Богоявленском соборе, народу было очень много. Запомнился один мужчина, который, войдя в собор, широко перекрестился и, упав на колени, заплакал. Встал и, обращаясь ко мне сквозь слёзы, сказал: «Я ему всем в жизни обязан». Это было его приношение владыке. Как жалко по сравнению с этой «лептой вдовицы» выглядел поднесённый одним очень и очень высокопоставленным лицом дорогой венок, на котором было написано: «Дорогому митрополиту…» Писали, видно, по понятиям . А когда владыку хоронили на кладбище Даниловского монастыря и поставили на могиле крест, одна одержимая начала лаять собакой. На могиле его всегда горят свечи. Последние фотографии владыки покоряют: с них смотрит не лицо, а лик. (С. 6–7).
Русский крик
Один человек, который в перестроечные годы купил японскую машину во Владивостоке и гнал её в Москву через всю Сибирь, вспоминал, что где-то в Читинской области его поразила картина. Он остановился отдохнуть за городом, поставил на таганок кастрюльку с супом. Откуда ни возьмись, появилась стайка мальчишек. Они не подходили к машине, а встали вдалеке и начали гонять ногами пустую банку из-под консервов. Но гоняли невесело, и вообще видно было, что не в банке дело. Не сразу его осенило, что мальчишки хотят у него попросить денег или еды, но стесняются. Он так и сказал: «Цыганские дети или кавказские мальчишки попросили бы, а русские мальчики стесняются. Нет у них этого в крови». И я вспомнил, как соседский дедуня вспоминал голод 1946 г. в Белгородской области: «Голод был большой, много людей умирало. А у нас дедушка водил пчёл, и мёд мы меняли то на мыло, то на хлеб, то на соль. Соседские мальчишки знали, что хлебушко у нас есть. А просить стеснялись. Придут, сядут на пороге, и молчат. Не просят, не играют, — сидят и молчат». Так я понял, что русский крик — немой. Он не настаивает на своём, а только напоминает о Боге и взывает к совести. Отвергнуть такой крик о помощи — большой грех. (С. 139–140).
Список литературы Зарубки на память (фрагменты из книги)
- Мельник В. И. Зарубки на память. М., 2012.