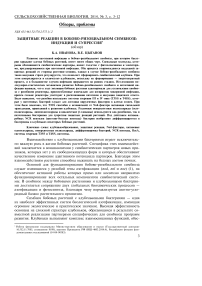Защитные реакции в бобово-ризобиальном симбиозе: индукция и супрессия (обзор)
Автор: Иванова К.А., Цыганов В.Е.
Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology
Рубрика: Обзоры, проблемы
Статья в выпуске: 3 т.49, 2014 года.
Бесплатный доступ
Развитие патогенной инфекции и бобово-ризобиального симбиоза, при котором бактерии заражают клетки бобовых растений, имеет много общих черт. Сигнальные молекулы, которыми обмениваются симбиотические партнеры, имеют сходство с фитоалексинами и элиситорами, продуцирующимися при патогенной инфекции. Оба процесса сопровождаются индукцией защитных реакций со стороны растения-хозяина, однако в случае бобово-ризобильного симбиоза такая индукция строго регулируется, что позволяет сформировать симбиотический клубенек. При этом контролируется и количество клубеньков, поскольку их формирование - энергозатратный процесс, и в большинстве случаев инфекция прерывается на ранних стадиях. Исследования молекулярно-генетических механизмов развития бобово-ризобиального симбиоза и патогенной инфекции выявили, что в ходе эволюции бобовые растения адаптировали для установления симбиоза с ризобиями рецепторы, приспособленные изначально для восприятия микоризной инфекции, причем схожие рецепторы участвуют в распознавании патогенов и индукции защитного ответа. Было выявлено, что ризобии используют системы секреции III и IV типа (T3SS и T4SS), которые у патогенных бактерий служат для доставки вирулентных факторов в клетки хозяев. При этом было показано, что T3SS способна к независимой от Nod-фактора активации сигнальной трансдукции, приводящей к развитию клубенька. Различные поверхностные полисахариды (экзополисахариды, липополисахариды и циклические b-глюканы) используются как ризобиями, так и патогенными бактериями для супрессии защитных реакций растений. Под действием антимикробных NCR пептидов (цистеин-богатые пептиды) бактерии необратимо дифференцируются в бактероиды в клубеньках некоторых бобовых растений.
Клубенькообразование, защитные реакции, nod-факторы, хитиновые олигосахариды, поверхностные полисахариды, дифференцировка бактерий, ncr пептиды, системы секреции t3ss и t4ss, патогены
Короткий адрес: https://sciup.org/142133506
IDR: 142133506 | УДК: 631.461.52:574.2:575.1/.2
Текст обзорной статьи Защитные реакции в бобово-ризобиальном симбиозе: индукция и супрессия (обзор)
Взаимодействие с клубеньковыми бактериями играет исключительно важную роль в жизни бобовых растений. Специфика этих взаимодействий заключается в возникновении у симбиотических партнеров новых признаков, которых нет у их свободноживущих форм и которые обеспечивают качественное изменение адаптивного потенциала партнеров. Благодаря этим взаимодействиям растения способны выживать на бедных азотом почвах.
Основой для функционирования бобово-ризобиального симбиоза служат имеющиеся у ризобий гены азотфиксации ( nod , nol и noe ) (1), на обеспечение активной работы которых прямо или косвенно направлено функционирование всех остальных компонентов симбиотической системы. В симбиозе между бобовыми растениями и клубеньковыми бактериями достигается сопряжение двух глобальных биохимических процессов — азотфиксации и фотосинтеза, благодаря чему нормализуется азотно-угле-родный баланс растительного организма.
Симбиоз бобовых растений с клубеньковыми бактериями — одна из наиболее эффективных систем биологической азотфиксации, имеющая огромное экологическое и практическое значение. Высокая эффективность основана на сложной структуре клубеньков, образующихся в результате совместной реализации партнерами специфических для симбиоза программ развития. Клубеньки выполняют комплекс взаимосвязанных функций, обес-
Работа финансово поддержана Министерством образования и науки (Государственный контракт 16.552.11.7085, соглашение 8109), грантом Президента РФ (НШ-4603.2014.4), Российским фондом фундаментальных исследований (14-04-00383).
печивающих экологическую нишу для размещения ризобий, структурную основу для обмена партнеров метаболитами, а также для контроля над численностью и физиологической активностью бактерий.
Формирование бобово-ризобиального симбиоза представляет собой многоступенчатый процесс, в котором бактериальная инфекция строго контролируется растением-хозяином. Детали этого процесса были рассмотрены достаточно подробно со стороны как макро- (2-5), так и микросимбионта (6-8).
Однако недостаточно изученным остается вопрос, касающийся границы между мутуалистическими и антагонистическими отношениями при формировании бобово-ризобиального симбиоза. Эти отношения представляют собой систему мультифункциональных возможностей, и даже небольшие изменения баланса внутри указанных процессов приводят к взаимному переходу. Совместимость между растением и микроорганизмом в симбиозе обеспечивается благодаря непрерывному обмену специфичными сигнальными молекулами. Причем растение выступает здесь доминирующим партнером, выбирая лишь выгодных себе на текущий момент симбионтов, что резко контрастирует с патогенными взаимодействиями, где микроорганизм провоцирует реакцию растения.
В последние годы значительные успехи в исследованиях молекулярно-генетических механизмов, лежащих в основе развития бобово-ризобиального симбиоза, показали, что в ходе эволюции как растения, так и ризобии использовали элементы молекулярной «машины», обеспечивающей взаимодействие растений с патогенами для формирования мутуалистического симбиоза. Так, было показано, что ризобии используют для индукции инфекции Nod-факторы, имеющие сходство с хитиновыми олигосахаридами (ХО), а у растения, в свою очередь, в узнавание Nod-факторов вовлечены рецепторы, обладающие большим сходством с рецептором, распознающим хитин (9), хотя следует заметить, что в последнее время появились данные о том, что рецепторы к Nod-факторам эволюционировали на основе рецептора к микоризным ХО, а не рецептора к патогенам (10). У бобовых растений, принадлежащие к кладе IRLC (Inverted RepeatLacking Clade), в необратимой дифференцировке бактерий в бактероиды участвуют антимикробные пептиды, причем со стороны ризобий важную роль в их восприятии играет белок bacA (11). Еще одним примером может быть использование ризобиями систем секреции III и IV типа (T3SS и T4SS), которые у патогенных бактерий служат для доставки в клетки хозяев вирулентных факторов (12) при активации инфекции (13). В успешном развитии ризобиальной инфекции, как и при развитии патогенной, важную роль играют различные поверхностные полисахариды (8).
Тем не менее, несмотря на различные механизмы, которые ризобии применяют для супрессии защитных реакций со стороны бобовых растений, последние способны воспринимать ризобий в качестве патогенов, поскольку даже при формировании эффективного симбиоза между бобовыми растениями и ризобиями дикого типа отмечается прерывание большинства инициированных инфекций, и лишь их незначительная часть завершается формированием эффективных клубеньков. Наблюдаемый феномен известен как авторегуляция клубенькообразования (14) и сходен с проявлениями реакции гиперчувствительности, развивающейся при патогенной атаке (15). Исследования многочисленных мутантов бобовых растений, блокированных на разных стадиях развития клубенька, показало, что даже единичная мутация в геноме бобового растения может приводить к индукции защитных реакций со стороны растения (16, 17). Это свиде- тельствует о том, что растение строго контролирует развитие инфекции и нарушение в работе системы регуляции приводит к прекращению развития полноценного клубенька.
Nod-факторы и хитиновые олигосахариды. Некоторые аналогии между развитием симбиоза и патогенеза прослеживаются уже на самых ранних стадиях, когда растения активируют nod -гены ризо-бий сигналами, сходными с флавоноидными фитоалексинами (например, глицеолин сои Glycine max L., пизатин гороха Pisum sativum L.). Выделяющиеся при этом липохитоолигосахариды, называемые Nod-факторами, имеют структурное сходство с элиситорами — ХО, производными клеточных стенок грибов, вызывающими активацию защитных реакций во многих растениях. ХО служат примером патоген-ассоциированных молекулярных паттернов, приводящих к включению защитных реакций в ответ на проникновение патогенов (18, 19). Тем не менее, в то время как симбиотические факторы, как правило, включают четыре или пять остатков N-ацетилглюкозамина, наиболее активные элиситоры хитина имеют большую степень полимеризации. Так, исследования на рисе ( Oryza sativa L.) и Arabidopsis thaliana (L.) Heynh показали, что ХО с шестью-восемью остатками N-ацетилглюкозамина более активно влияют на экспрессию генов и другие ответы, чем те ХО, что имеют от трех до пяти остатков (20, 21). Кроме того, существуют значительные различия в активных концентрациях этих молекул. Nod-факторы могут быть активны при концентрации до 10-13 М, тогда как во многих исследованиях ответных реакций на действие ХО применяют концентрацию от 10-9 до 10-6 М (22).
В восприятие растением этих структурно сходных гликанов вовлечены рецептор-подобные киназы с LysM-мотивами во внеклеточных доменах. LysM-мотивы, как полагают, представляют собой участки для связывания веществ, содержащих N-ацетилглюкозамин. В ходе эволюции растений ХО, очевидно, служили иммуногенными паттернами, активирующими белковый LysM рецептор, вызывая тем самым у растения иммунный ответ и остановку инфекции. Биохимический потенциал растительного белка LysM с тех пор, вероятно, благоприятствовал эволюции рецептора, воспринимающего уже не ХО, а Nod-факторы и содействующего ризоби-альной инфекции при симбиозе (23).
Недавно с использованием химерных генов AtCERK1 (кодирует рецептор к хитину у A . thaliana ) и LjNFR1 (кодирует один из рецепторов к Nod-фактору у Lotus japonicus (Regel.) K. Larsen было показано, что несколько аминокислотных замен в киназном домене рецептора хитина AtCERK1 запускают сигнальный каскад, приводящий к формированию симбиотических клубеньков у мутанта nfr1 , несущего мутацию в одном из компонентов рецептора к Nod-фактору (9).
В то же время Nod-факторы сами могут активировать защитные сигнальные каскады, такие как LjNFR1 -зависимая экспрессия некоторых защитных генов в L . japonicus (9) и гибель клеток в листьях Nicotiana benthamiana Domin в ответ на сверхэкспрессию пары рецепторов к Nod-факторам (24). Тем не менее, индукция Nod-факторами большинства генов, связанных с активацией защитных реакций, во время симбиоза носит временный характер или совсем отсутствует (9, 25-27).
На основании полученных данных была выдвинута гипотеза, что в процессе эволюции для формирования симбиотических отношений с бобовыми растениями ризобии использовали их способность посредством рецептора, содержащего LysM-мотивы, распознавать микроорганизмы через восприятие ХО, модифицировав последние в Nod-факторы, структура ко- торых (наличие разнообразных заместителей) позволила обеспечить высокую специфичность взаимодействия. Однако недавно проведенный филогенетический анализ генов, кодирующих рецепторы к ХО и Nod-факторам, показал, что гены рецепторов к последним у бобовых растений эволюционировали не из гена предкового рецептора к ХО, а из предкового рецептора к микоризным хитоолигосахаридам (10).
Nod-факторы инициируют начальные этапы формирования симбиотического клубенька: деформации и скручивание корневых волосков, а также индукцию клеточных делений в коре корня. Для появления полноценного клубенька необходимо дальнейшее продвижение ризобий вглубь корня благодаря образованию инфекционной нити, а затем их высвобождение в цитоплазму растительных клеток с последующей дифференцировкой в бактероиды и формированием симбиосом. Очевидно, что на всех описанных выше этапах ризобии подвергаются угрозе быть воспринятыми растением в качестве патогенов, поэтому неудивительно, что в ходе эволюции бактерии создали эффективные системы, позволяющие им избегать защитных реакций растения. К таким системам можно отнести синтез разнообразных поверхностных полисахаридов, системы секреции и т.п.
Поверхностные компоненты ризобий. К поверхностным компонентам ризобий, которые принимают активное участие в модификации и супрессии защитных реакций у бобовых растений, принято относить различные полисахариды, такие как экзополисахариды, липополисахариды, капсулярные полисахариды, циклические глюканы, наличие которых характерно для грамотрицательных бактерий (8). Из поверхностных компонентов ризобий наиболее изучен кислый экзополисахарид (ЭПС I), или сукциноглюкан (28). У ризобий люцерны ( Sinorhizobium meliloti ) синтез ЭПС I контролируется более чем 20 exo -генами, расположенными на б о льшей мегаплазмиде. Было показано, что мутант exoY, у которого не продуцируется сукциногликан, характеризуется неспособностью инициировать формирование инфекционных нитей. Мутант exoZ , продуцирующий неацетилированный сукциногликан, формировал азотфиксирующие клубеньки, но в ходе развития этих клубеньков наблюдалась задержка инициации и роста инфекционных нитей. Для мутанта exoH , продуцирующего нефункциональный высокомолекулярный сукциногликан без сукцинила, характерна абортация инфекционных нитей в корневых волосках. В то же время сверхпродукция сукциногликана приводила к потере способности ризобий колонизировать скрученные волоски. Очевидно, что сукциногликан играет важную роль в подавлении защитных реакций растения, вызываемых ризобиальной инфекцией (29).
В экспериментах K.M. Jones с соавт. (30) при инокуляции растений Medicago truncatula Gaertn. мутантным штаммом exoY ( S . meliloti ) наблюдался повышенный уровень экспрессии генов, активирующихся при развитии защитных реакций, по сравнению с контрольным штаммом. Наиболее активно экспрессировались гены, кодирующие белок SH20 и эндо-1,4- в -глюканазу, предупреждающие инфицирование патогенными грибами, а также белок, препятствующий клеточной гибели.
Липополисахариды ризобий также могут подавлять защитные реакции (например, синтез активных форм кислорода в растениях) (3133), а липополисахаридные мутанты часто не способны вступать в симбиоз (34-37).
Растение может влиять на состав липополисахаридов, вызывая их модификации. У Rhizobium sp. NGR234 (штамм с широкой хозяйской специфичностью, способный формировать клубеньки у большого круга бобо-6
вых) флавоноиды вызывают изменения в рамнозном О-антигене, одновременно индуцируя экспрессию генов клубенькообразования (38, 39).
Важными для развития симбиоза компонентами поверхности ризо-бий, вовлеченными в диалог с защитными системами растений, оказались также циклические в -глюканы, которые могут составлять до 20 % сухой массы клеток (40). Они играют важную роль в адаптации бактероидов к новым физиологическим условиям, повышая осмотическую стабильность клеток (41). Нарушение синтеза этих глюканов, как и ЭПС I, вызываемое мутациями в генах ndv , приводит к формированию псевдоклубеньков (42, 43).
Системы секреции. Многие бактериальные патогены животных и растений используют систему секреции III типа (T3SS), образовавшуюся в ходе эволюции из жгутиковой системы бактерий (44), для доставки различных белков (часто называемых эффекторами) в своих хозяев (45). Такие системы секреции, очевидно, могут играть важную роль и в становлении симбиоза у определенных видов ризобий. Синтез компонентов T3SS и эффекторов, которые она выделяет, регулируется флавоноидами и транскрипционным активатором NodD. T3SS была детально охарактеризована у штамма USDA110 Bradyrhizobium japonicum , штамма MAFF303099 Mesorhizobium loti , штамма CNPAF512 Rhizobium etli , Rhizobium sp. NGR234, штаммов HH103 и USDA257 Sinorhizobium fredii (12).
Недавно было показано (13), что штамм дикого типа Bradyrhizobium elkanii USDA61 формирует клубеньки не только на растениях сорта G . max дикого типа, но и на образце En1282, который несет мутацию по гену nfr1 , кодирующему один из компонентов рецептора к Nod-фактору. В то же время мутант с дефектом по генам, кодирующим компоненты T3SS, не был способен образовывать клубеньки на мутантных растениях. Мутантный штамм BEnodC, неспособный продуцировать Nod-факторы, также формировал клубеньки на мутантных растениях. Было показано, что в отсутствие инициации сигнальной трансдукции Nod-фактором, ведущей к формированию симбиотического клубенька, активация происходит на этапе функционирования генов растений ENOD40 и NIN. Это свидетельствует о том, что T3SS способна к независимой от Nod-фактора активации сигнальной трансдукции, приводящей к развитию клубенька, хотя точный механизм пока остается неизвестным (13).
Определенную роль в развитии симбиотических клубеньков играет и так называемая система секреции IV типа (T4SS), которая эволюционировала на основе системы конъюгации (46). T4SS тоже активируется при взаимодействии флавоноидов с транскрипционным активатором NodD, однако в отличие от T3SS в дальнейшей регуляции задействована двухкомпонентная (VirA и VirG) система (12).
Таким образом, для доставки эффекторов, которые способствуют развитию симбиотических отношений, некоторые ризобии в ходе эволюции научились использовать системы секреции, обеспечивающие у патогенных бактерий передачу факторов вирулентности в клетки хозяев.
Контроль со стороны растения за развитием инфекции. Растение контролирует число участков инфекции, направление ее распространения и количество образующихся в результате этого клубеньков потому, что их формирование и функционирование — достаточно энергозатратный процесс. Хотя ризобии хорошо адаптированы к действию защитных систем хозяина, только небольшая доля бактерий способна обеспечить инфицирование с последующим появлением клубеньков, так как большинство инфекционных нитей абортируется в эпидермисе или коре. В случае симбиоза Rhizobium meliloti—люцерна Medicago sativa L. бы- ли выявлены участки инфекции, в которых наблюдается полный некроз бактериальных и растительных клеток (15). Иными словами, растение-хозяин ограничивает развитие значительной части инфекционных нитей за счет ответов, сходных с реакцией гиперчувствительности.
Косвенным доказательством возможной роли активных форм кислорода в регуляции развития инфекционной нити служит идентификация клеточных пероксидаз (47, 48) и локализация липоксигеназного антигена в матриксе инфекционной нити (49). Кроме того, диаминоксидаза, которая может генерировать перекись водорода и вызывать перекрестное связывание белков в межклеточном матриксе, идентифицирована в клубеньках гороха ( P . sativum ) и, очевидно, присутствует в матриксе инфекционных нитей (50).
Дифференцировка бактерий в бактероиды. Для бобовых растений, принадлежащих к кладе IRLC (Inverted Repeat-Lacking Clade), таких как горох ( P . sativum ), люцерна ( M . truncatula ), вика ( Vicia sativa L.), характерны ярко выраженные морфологические изменения ри-зобий при их дифференцировке в бактероиды, которая необратима. Недавно было показано, что клубенек-специфичные цистеин-богатые пептиды (NCR пептиды) служат факторами, индуцирующими необратимую дифференцировку бактероидов (51). NCR пептиды бобовых растений (52) сходны с группой антимикробных пептидов — эффекторов врожденного иммунитета как у растений, так и у животных (53). Со стороны ризобий в необратимой дифференцировке бактероидов важную роль играет белок BacA, который, вероятно, участвует в изменении состава симбиосомной мембраны, обеспечивая слияние секреторных везикул, содержащих NCR пептиды, с симбиосомами либо модифицирует клеточную оболочку, меняя восприимчивость бактерий к NCR пептидам (11). Примечательно, что BacA консервативен для многих бактерий и необходим для поддержания хронических инфекций, вызываемых, например, Brucella abortis и Mycobacterium tuberculosis (11). Это поразительный пример того, как элементы, обеспечивающие механизм инфицирования у бактерий, и системы защиты растения в ходе эволюции вовлекались в развитие симбиотических отношений, в результате чего появилась необратимая дифференцировка бактероидов, имеющая, вероятно, эволюционное преимущество, поскольку было показано, что она возникала в эволюции неоднократно (54).
Итак, очевидно, что в процессе эволюции ризобии использовали элементы патогенеза, а бобовые растения — элементы иммунной системы для установления взаимовыгодных отношений, приводящих к формированию симбиотических клубеньков в результате супрессии защитных реакций растения. При этом развитие симбиоза находится под строгим контролем со стороны растения и нарушения, вызываемые единичными мутациями как у растения, так и у ризобий, способны приводить к индукции защитных реакций со стороны растения.