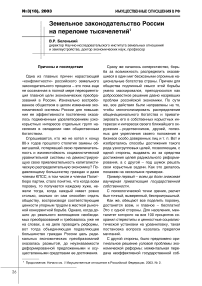Земельное законодательство России на переломе тысячелетий
Автор: Беленький В.Р.
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Земельный вопрос
Статья в выпуске: 3 (18), 2003 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170150980
IDR: 170150980
Текст статьи Земельное законодательство России на переломе тысячелетий
Одна из главных причин нарастающей «конфликтности» российского земельного законодательного процесса – это пока еще не осознанная в полной мере переориентация главной цели экономических преобразований в России. Изначально востребованное обществом в целом изменение экономической системы России для повышения ее эффективности постепенно оказалось подмененным удовлетворением узкокорыстных интересов отдельных групп населения в овладении ими общественным богатством.
Спрашивается, кто же не хотел к концу 80-х годов прошлого столетия замены обветшалой, потерявшей свою привлекательность и жизнестойкость социалистической уравнительной системы на демонстрирующую свою привлекательность капиталистическую распределительную экономику? Подавляющему большинству граждан и даже членам КПСС, в том числе и членам Политбюро партии, стало понятно, что когда всем поровну, то получается каждому хуже, нежели тогда, когда каждый имеет ровно столько, сколько он сам способен отдать обществу, воспроизводя соответствующие ценности упорным трудом в жесткой рыночной конкурентной борьбе. Однако, когда дошло до реального воплощения необходимых преобразований и требовалось уже не на словах, а на деле проводить реформы, вот тогда объединяющая подавляющее большинство граждан России цель радикальных экономических преобразований оказалась размытой, до неузнаваемости деформированной предложенными и осуществленными средствами ее достижения.
Сразу же началось соперничество, борьба за возможность распределить оказавшиеся в один миг бесхозными огромные национальные богатства страны. Причем для общества подлинный смысл этой борьбы умело маскировался, преподносился как добросовестное решение давно назревших проблем российской экономики. По сути же, все действия были направлены на то, чтобы монополизировать распределение общенационального богатства и приватизировать его в собственных корыстных интересах и интересах своего ближайшего окружения – родственников, друзей, полезных для укрепления своего положения в бизнесе особо доверенных лиц и т. п. Вот и изобретались способы достижения такого рода узкогрупповых целей, позволяющие, с одной стороны, выдавать их за средства достижения целей радикального реформирования, а с другой – под шумок решать свои корыстные задачи. Как это делалось покажем на нескольких примерах.
Пример первый – всем до боли знакомая ваучерная приватизация государственной собственности.
С психологической точки зрения, расчет был точный, выверенный, беспроигрышный.
Как же, обещают все поделить поровну, достанется всем, и главное – бесплатно! Это с одной стороны. Для населения, менталитет которого на все 100 процентов сохранил стереотипы и ценностные социалистической установки на уравниловку, такая постановка вопроса казалась пределом мечтаний.
С другой стороны, было предложено оригинальное решение узловой проблемы экономической реформы: моментальная передача неэффективной государственной соб- ственности в руки заинтересованного и поэтому эффективного частника, немедленное отчуждение государства от вмешательства в экономический процесс! Куда уж лучше.
Что будет дальше, никого уже не интересовало. А вот дальше и началось самое интересное. Действительно, ваучеры получили все. Затем вступил в действие механизм их изъятия у населения и концентрации в руках узкой группы посредников, в числе которых оказались преимущественно представители ближайшего окружения авторов ваучеризации и других, обладающих административным ресурсом «реформаторов», успешно растолкавших и вытеснивших в короткий срок из реальной экономической политики подлинных творцов радикальной экономической реформы.
Последующий ход событий сегодня всем известен и понятен. Скупив у населения за бесценок ваучеры, посредники вмиг превратились в собственников «заводов, газет, пароходов», но никто из них не спешил инвестировать свое производство. Да и откуда было взять для этого средства, желание, умения? Поэтому все и закончилось банальной распродажей всего, что можно было продать, хоть целиком, хоть по частям, оптом или в розницу.
Выручка же от такой распродажи оседала на зарубежных счетах «ваучероводов», моментально поменявших статус мелких спекулянтов, лаборантов, рубщиков мяса, младших научных сотрудников на олигархов, миллионеров, миллиардеров. Ну а чтобы общественность не сразу разобралась в этой примитивной афере, она преподносилась как героическое осуществление крайне обременительной и опасной для жизни исполнителей санации неэффективного производства.
Пример второй, более близкий к сфере реформирования собственно земельных отношений: раздел на паи землепользований, сложившихся до начала радикальных реформ крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий.
И в этом случае с психологией все было в порядке. Для сохраняющих приверженность уравниловке – установка на раздачу всем причастным в той или иной мере к сельскохозяйственному производству и не причастным к нему сельским жителям равных по площади земельных наделов. Для энтузиастов либеральной экономики был выдвинут заманчивый призыв раздать землю фермерам под лозунгом «фермер накормит Россию». На поверку за этими лозунгами вновь умело маскировались узкогрупповые интересы на этот раз – «местных начальников» из аппарата управления сельскохозяйственного производства. Действительно, что будут делать со своими земельными наделами рядовые труженики сельского хозяйства, возраст которых приближается или уже перевалил за пенсионный? Как распорядятся выделенным земельным паем сельские врачи, учителя, работники культуры и т. п.? Куда все они денутся, когда весь их быт, условия жизни, возможность нормально трудиться, если не целиком, то в значительной мере зависят от руководителя сельскохозяйственного предприятия? Ответ на эти вопросы очевиден – ни первые, ни вторые никуда не денутся, а их земельные наделы уж точно останутся в распоряжении руководства предприятия.
Получается, что и в этом случае за внешним фасадом прогрессивной идеи скрываются какие-то иные, не видимые всем интересы, носителями которых выступают все те же руководители бывших колхозов и совхозов. Каждый из них прекрасно понимает, что фермеры еще долго, а возможно, и никогда не будут серьезными конкурентами крупнотоварного производства, и поэтому не представляют какой-либо угрозы. А вот пользоваться в собственных интересах субсидиями, которые будут выделены государством на создание фермерских хозяйств, будет совсем не лишним. Для этого можно и кого-либо из своих родственников определить в фермеры, предоставить ему и лучшие земли, и работающую технику, и постройки в хорошем состоянии. Да и самого фермера можно будет в той или иной мере принуждать к выполнению разного рода неоплачиваемых услуг, подвергать его прямым поборам.
Такие вот благие намерения («хотели как лучше»), которые, даже не будучи до конца реализованными, сегодня оборачиваются серьезными проблемами («получилось, как всегда»).
Любопытная трансформация произошла и с идеей «раздробления» и раздачи на паи землепользований бывших колхозов и совхозов.
Известно, что еще задолго да начала радикальных экономических преобразований в России, в 70 – начале 80-х годов прошлого столетия была разработана и начала осуществляться развернутая программа создания современного высокоэффективного агропромышленного комплекса (АПК) страны, в рамках которой особое место уделялось активизации «человеческого» фактора. Детально прописывались методы мотивации эффективного землепользования не только на основе внедрения арендного порядка в крупнотоварных сельскохозяйственных предприятиях, но и за счет создания крестьянских (фермерских) хозяйств, стимулирования развития личного подсобного хозяйства, индивидуального животноводства и садово-огородничества.
Однако пришла беда, причем оттуда, откуда ее не ждали. Когда, преодолевая сопротивление, маховик перестройки АПК начал медленно раскручиваться, на арене неожиданно появились новые действующие лица: экзальтированные журналисты, политизированные горячие парни – радиофизики, химики, биологи и иные персонажи, особенно не обремененные необходимыми знаниями, но зато готовые к немедленным действиям в любой сфере общественных отношений: будь то экономика, политика, юриспруденция, социология.
И началось. «Частная земельная собственность превыше всего, она – локомотив успешного хозяйствования на земле», – заявляли одни. «Земле нужен хозяин», – вторили им другие. «Фермер накормит Россию», – утверждали третьи. «Долой колхозы и совхозы!» – требовали четвертые. Причем никто из оракулов особо не утруждал себя сколь-либо заслуживающей доверия аргументацией.
Конечно, если судить по меркам глубокой древности, то частная собственность, особенно на землю, действительно выступала как движущая сила высокоэффективной хозяйственной деятельности. Но за прошедшее время (особенно за последнее столетие) в мире кое-что изменилось. Сегодня и частная собственность уже совсем не та, какой она была в прошлом, и ее роль в регулировании экономического поведения хозяйствующих субъектов также иная. Львиная доля свойственных землевладельцу прошлого функций землепользования объективно отчуждена от него и находится в руках тех, кто в состоянии воздействовать на хозяйственное поведение самого землевладельца, снижая тем самым значение для него частной земельной собственности.
Верно и то, что земле нужен хозяин. Но кому это нужно больше: конкретному землевладельцу или обществу в целом? Конечно же, обществу в целом. Ведь кто-то же должен взять на себя весь риск (природно-экономический и социально-политический) освоения такого специфического средства производства, как земля, который нельзя физически перемещать в пространстве, «растворять» и транспортировать. Любой землевладелец оказывается в жесткой зависимости от внешних природных и социальных сил и катаклизмов со всеми вытекающими из этого последствиями. Так что, провозглашая упомянутый лозунг, впору было задаться вопросом: «А нужна ли хозяину земля?». Особенно в период глубоких преобразований с неизбежно сопутствующими им тяжелыми кризисными явлениями.
Лозунг «Фермер накормит Россию» аргументировался в основном ссылками на опыт западных капиталистических стран, прежде всего, США. При этом авторы удивительным образом не замечали того, что все-таки и в Америке мелкотоварные фермерские хозяйства по степени модернизации производства и своей рентабельности уступают крупнотоварным сельскохозяйственным предприятиям, что и там идет объективный процесс концентрации аграрного производства. А если и сохраняются в структуре аграрного сектора в определенных пропорциях мелкие, средние и крупные сельскохозяйственные предприятия, то это вызвано объективной необходимостью разделения функций для поддержания в «ра- бочем» состоянии продовольственного комплекса в целом.
Понимание этого обстоятельства позволило бы несколько охладить агрессивный «накат» на сложившуюся в России систему крупнотоварного аграрного производства и принять более или менее взвешенное решение при выборе модели преобразований и реформировать аграрный сектор таким образом, чтобы в конце концов создать новый многоукладный строй, в котором нашлось бы место для сельскохозяйственных предприятий как частной, так и государственной форм собственности, как для крупнотоварных, так и мелкотоварных крестьянских (фермерских) хозяйств.
К сожалению, на практике осуществить такой подход не удалось. Прежде всего потому, что предпринимались титанические усилия для организации фермерских хозяйств и замещения ими крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий. Как и следовало ожидать, затея эта провалилась как из-за своей финансовой несостоятельности, так и по причине серьезного социально-психологического недоверия со стороны реальных представителей крестьянского сословия к такого рода «новаторству». Вспомним контингент, из которого рекрутировались новоиспеченные фермеры. В основном это были горожане. Крестьяне же крайне осторожно отнеслись к этому мероприятию и имели на то веские основания. Как выяснилось, для строительства более или менее приличной фермы на 50 коров с беспривязным содержанием и без воспроизводства стада потребовалось бы 275 тыс. рублей (в ценах на начало 1990 года). Еще около 35–40 тыс. рублей необходимы были для строительства жилого дома. Итого – более 300 тыс. рублей. Предполагалось, что для прокорма России нужно иметь не менее двух миллионов фермеров. Умножим 300 тыс. рублей (стоимость одного фермерского хозяйства) на два миллиона фермеров и получим астрономическую для того времени цифру – шестьсот миллиардов рублей! По данным официальной статистики, на конец 1990 года в СССР во всех категориях сельскохозяйственных предприятий в целом (колхозы, совхозы и межхозяйственные предприятия) стоимость всех основных производственных фондов составляла 360,9 млрд рублей или почти в два раза меньше рассчитанной нами цифры. А ведь еще нужно было закупать технику, скот, удобрение и т. д., и т. п. В общем, посчитали – прослезились. И стали требовать от государства, чтобы оно выделило в нужном количестве финансовые и материально-технические ресурсы на обустройство двух миллионов фермерских хозяйств. И это при том, что еще существовали крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия, в не меньшей мере нуждавшиеся в финансовой поддержке государства! Тем не менее после распада СССР российским руководством в авральном порядке была осуществлена нехитрая операция: все ранее существовавшие сельскохозяйственные предприятия срочно преобразовали в разного рода товарищества, акционерные общества, ассоциации и т. п. Землю поделили на земельные доли с раздачей последних работникам этих хозяйств, а также проживающим на их территории рабочим и служащим, занятым в социальной сфере села. К 2000 году в Российской Федерации насчитывались 11,9 миллиона собственников земельных долей. И хотя в натуре доли эти не были выделены, каждое преобразованное предприятие уже не обладало свойствами крупнотоварного производства, превращалось в утративший правовую целостность и, потому лишенный стратегической устойчивости и перспективы, конгломерат мелких хозяйчиков. Так произошло разделение фундамента крупнотоварного землепользования. Мало того, значительная часть долей оказалась у тех, кто был не в состоянии реально трудиться на этих землях (пенсионеров, работников социальной сферы). Вырисовывается характерная тенденция: с каждым годом число владельцев земельных долей, которые непосредственно участвуют в их хозяйственном использовании, неуклонно сокращается. Зато количество недееспособных собственников этих долей пополняется новыми пенсионерами, которых замещают в производственном процессе наемные работники. Скоро в таких хозяйствах будут работать в основном наемные работники, а владеть землей – не участвующие в производственном процессе люди. Так что, вопреки всякого рода рассуждениям о социальной справедливости раздела земель колхозов и совхозов для передачи их тем, кто ее обрабатывает, придется забыть. Похоже, сегодня раздел земли крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий на мелкие доли является серьезной головной болью для тех, кто отвечает за экономику страны как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации. Все ломают головы, что делать с этими долями, как выбраться из тупика, в который загнали российский аграрный сектор ретивые «младореформаторы». Изымать эти доли у новоиспеченных собственников и вновь восстанавливать землепользование сельскохозяйственных предприятий в их крупнотоварной форме – значит разрушить остатки доверия населения к осуществляемой экономической политике, предоставить блестящие возможности для демагогических выступлений разного рода политических спекулянтов и провокаторов. Оставить все как есть – лишить руководителей преобразованных, но сохранивших коллективную форму собственности сельскохозяйственных предприятий возможности стратегического планирования, что особенно опасно в условиях формирующейся рыночной экономики. Получается, что первый способ плох, а второй еще хуже. Вот, оказывается, чем оборачивается игнорирование в правовых документах закономерностей организации эффективной экономики, ради которой и затевалась ее радикальное реформирование.
Сегодня, когда факт провала идеи раздробления крупных землепользований на мелкие паи уже не скроешь, ее авторы утверждают, что в начале движения к рынку ничего иного предложить было невозможно, что мировая история знает лишь три способа приватизации государственной земельной собственности при переходе от социалистической к капиталистической модели экономики. Это либо реституция, т. е. возврат земли бывшим ее владельцам, либо аукционная распродажа, либо бесплатная передача земли равными долями всем, кто так или иначе причастен к сельскохо- зяйственному производству в целом. Здравомыслящему человеку понятно, что реституция земельной собственности в России категорически невозможна. Прежде всего потому, что сегодня просто не отыщешь бывших земельных собственников и не установишь, кому какая земля принадлежала. Выкупа земли тоже не получится, т. к. у населения, особенно сельского, нет для этого средств. Остается бесплатная раздача поровну. Такие вот резоны приводят авторы паевой приватизации земли. И горячо доказывают, что эту идею они воплощали как вынужденную промежуточную меру от безысходности и на самый короткий срок. А вот сейчас, дескать, срок этот истек и можно с легким сердцем привести все в надлежащий порядок, заняться «собиранием» на добровольных началах мелких земельных паев с землепользования уже основанных на совместной земельной собственности крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий типа крестьянских кооперативов, товариществ, ассоциаций.
Лукавят авторы паевой приватизации, ох как лукавят!
Во-первых, мировой истории вообще не известны исторические зигзаги, подобные тому, который совершила в последнее десятилетие Россия, а вслед за нею и все остальные страны социалистического содружества. Так что, апеллировать к мировому опыту не стоит, ибо в условиях нынешней России нельзя использовать этот опыт для поддержки неудачного эксперимента ныне живущих и горячо оправдывающихся авторов пресловутой паевой приватизации земель колхозов, совхозов и иных сельскохозяйственных предприятий социалистического прошлого. Во-вторых, вопреки титаническим усилиям этих авторов по широкому освоению их идеи подавляющая часть крестьян не приняла ее, отнеслась к ней как к очередной причуде городских умников и сохранила в совместной или коллективно-долевой собственности крупные землепользования. Именно это обстоятельство убедительно доказывает, что в противовес паевому измельчению крупных землепользований была и оказалась успешно реализованной здравая альтернатива.
Да, реституцию земель в России осуществить было невозможно. Не было у населения и средств для выкупа земли. Но кто сказал, что нужно было раздавать всем поровну земельный фонд действующих сельскохозяйственных предприятий? Разве нельзя было решить вопрос передачи сельскохозяйственных земель в надежные руки более радикальным способом? Например, передать хозяйство целиком в одни руки в честной конкуренции бизнес-проект-планов на специально организованных аукционах. Следовало лишь тщательно продумать организацию таких аукционов, чтобы избежать разного рода подтасовок, коррупции и иных негативных проявлений. И тогда, не разрушая сложившегося крупнотоварного предприятия, можно было бы передать его в собственность наиболее инициативным и профессионально подготовленным членам крестьянского сословия, потребовать от них реализации предложенной ими же и выигравшей конкурс программы, гарантии соблюдения прав и интересов сложившегося трудового коллектива, возложив определенную ответственность за позитивную динамику сельской местности в целом. И ничего несерьезного в таком предложении нет. Инициативный, способный сплотить и организовать трудовой коллектив собственник, плюс демонстрирующая его профессиональные возможности серьезная программа действий, могли бы служить серьезной гарантией безрискового кредитования этого предприятия причем в наиболее выгодном варианте долевого участия государственного и частного капитала. Конечно, и в этом решении можно найти свои минусы. Но уж, во всяком случае, в их числе не будут столь разрушительные, которые характерны для идеи паевого дробления земельного фонда аграрного сектора России.
Более того, именно такое решение, ориентирующее на многообразие типов сельскохозяйственных предприятий разной величины, в полной мере отвечало бы объективным законам структурной организации аграрного экономического процесса и пространства.
Дело в том, что движущим элементом роста общественного производства высту- пают две силы – научно-технический прогресс, т. е. технократический фактор, и заинтересованность, помноженная на личную ответственность работников в конечном результате труда, т. е. социальный фактор.
Активное вовлечение технократического фактора объективно опирается на непрерывный процесс обобществления труда и производства, тормозом для которого в той или иной мере служит социальный фактор развития экономики. Ведь чем больше армия работников, тем больше зависимость конечного результата их труда от самого слабого звена, причем не только из-за разного отношения к труду, но и из-за объективных различий между людьми в их физических, умственных способностях, сноровке, выносливости и т. п. В промышленности это противоречие между технократическим и социальным факторами снимается за счет индустриализации труда, позволяющей его структурировать, нормировать и контролировать, а, следовательно, и распределять ответственность за конечные результаты между конкретными исполнителями. Но и здесь добиться максимальных результатов непросто. Тем более это непросто в сельском хозяйстве, где значительную часть рабочих операций трудно, а в ряде случаев просто невозможно увязать с конечными результатами, а значит, и поставить их под внешний контроль. В итоге в сельском хозяйстве постоянно существует скрытое острое внутреннее противоречие между индустриализацией производства, требующей обобществления труда, и активизацией социального фактора аграрной деятельности, предполагающей ее индивидуализацию, совмещение в одном лице функции собственника, непосредственного исполнителя трудовых операций и полностью ответственного за конечные результаты производства субъекта распределительных отношений.
В мировой практике это противоречие разрешается на основе последовательного отделения от собственного аграрного технологического процесса тех операций, которые по мере научно-технического прогресса приобретают черты индустриальной деятельности, т. е. могут быть нормированы и проконтролированы, в том числе рын- ком. При этом все эти отделяющиеся операции образуют по отношению к аграрному процессу внешнюю производственно-технологическую среду, способную к восприятию самых прогрессивных образцов научно-технического прогресса, передовых форм специализации, высокого уровня концентрации, кооперирования и комбинирования. В состав этой внешней по отношению к аграрному товаропроизводителю сферы входят не только предприятия производственной инфраструктуры (переработка, хранение, заготовка, ремонт техники и т. п.), но и производства, выполняющие прямые функции аграрного технологического процесса (обработка пашни, внесение удобрений, химикатов, кормление животных, зооветеринарный и агротехнический надзор и другие производства), объекты рыночной инфраструктуры (биржи, финансово-кредитные учреждения, посреднические и консалтинговые предприятия), транспортно-коммуникационные и информационные системы.
Сказанное подводит к принципиальному выводу: в России фермерские хозяйства, их ассоциации и кооперативы выйдут на мировой уровень и станут высокоэффективными только тогда, когда будет создана полноценная обслуживающая их производственно-техническая система. Сформировать ее быстро не удастся. Поэтому фермеры еще долго будут проигрывать крупным и в какой-то мере самодостаточным по набору инфраструктурных производств коллективным сельхозпредприятиям.
Пример третий, демонстрирующий замещение в законотворчестве общенациональных интересов узкогрупповыми. Речь вновь пойдет о городских землях, как объекте экспансии со стороны групп населения, интересы которых «сфокусированы» на спекулятивных операциях на земельном рынке. Сейчас именно эти группы как отечественного, так и зарубежного «замеса» оказывают на землепользование городов невероятно агрессивное давление. Отправным пунктом в реализации своих планов присвоения городских земель для последующей спекуляции ориентированные на это группировки вновь избрали психологически выверенный маневр – обещание невиданного притока инвестиций в городскую застройку, упрощение процедур передачи под нее земельных участков. Посмотрим, что же из этого может получиться.
Переход к рынку коренным образом меняет социально-экономические условия организации планировочной структуры города и радикально трансформирует концептуально-методическую основу и содержание градостроительной деятельности.
Во-первых, в процессе разгосударствления экономики все более широкие слои и группы населения занимают активные позиции в решении таких вопросов, как выбор направлений развития городской среды, формирование ее планировочной структуры, организация застройки конкретными объектами и т. п. По мере развития экономической реформы и сопровождающего ее социального и имущественного расслоения населения на смену уравнительным архитектурно-планировочным стандартам жизнеобеспечения среднестатистического горожанина приходит множество зачастую противоречивых потребностей, интересов и установок различных категорий, слоев и групп городского населения. В этих условиях градостроительное обеспечение организации и развития городской среды превращается в сложный процесс согласования интересов и разрешения противоречий на сугубо компромиссной и в то же время строго профессиональной основе.
Во-вторых, переход к рынку сопровождается принципиально важным для градостроительной деятельности изменениями в характере развития самого экономического процесса: он вынужден опираться на не имеющие стратегической глубины, несогласованные между собой, подверженные постоянным изменениям проявления конъюнктурного экономического поведения огромного множества конкурирующих хозяйствующих субъектов.
В-третьих, осуществление радикальной экономической реформы вносит изменения в механизм реализации градостроительных решений: взамен жестких директивных способов управления градостроительным процессом объективно выходят на первое мес- то методы косвенного, «мягкого» экономического регулирования и стимулирования поведения всех участников этого процесса.
Актуальность корректировки концептуально-методических основ организации городской среды определяется тем, что традиционные для города проблемы развития и архитектурно-планировочной организации обостряются, приобретают качественно новое и проблемное содержание. Речь, в частности, идет о таких проблемах, как неуправляемый рост крупных городов при экстенсивной застройке их территорий, несбалансированное развитие составных частей и элементов планировочной структуры города, сохранение в составе городской застройки объектов, не отвечающих интересам его социальной, экономической и экологической устойчивости и защищенности, деградация исторической застройки и т. п.
Ситуация осложняется еще и тем, что большинство городов России лишено отвечающих современным социально-экономическим реалиям генеральных планов застройки.
Если к сказанному добавить дефицит средств на разработку генеральных планов застройки городов, то становится понятным пессимизм, охвативший многих специалистов, занятых организацией городской среды. И не случайно в последнее время появились различные рецепты, предлагающие разного рода простые решения совсем не простой проблемы. В их числе и рекомендации решать все вопросы организации городской среды и выделения инвесторам земельных участков под застройку на основании уже упоминавшегося так называемого правового зонирования территории города. Об опасных «полномочиях», которыми наделяется этот документ, мы уже говорили.
Но еще более странным выглядит предложение о составе комиссии, которой будет доверено проведение такого рода зонирования. Специалистам-профессионалам в этих комиссиях места нет. Зато чиновникам, причем в большинстве своем даже не имеющим представления о законах создания градостроительной среды, – зеленая улица. Возглавить же эту комиссию рекомендуется поручить какому-либо знатоку рынка, лучше иностранному эксперту, который будет учить уму разуму «подопечных» ему членов комиссии.
Кому и зачем понадобилось громоздить одну нелепость на другую?
Суть идеи в том, чтобы «расчистить» отечественным и иностранным спекулянтам городскими земельно-имущественными объектами поле деятельности и создать не отягченное какими-либо ограничениями пространство для спекулятивных операций с городскими землями. Чтобы не быть голословными, отметим следующее. Сама идея правового зонирования привнесена к нам из благополучных западных стран, где действительно практикуется такого рода деятельность как способ оперативного решения возникающих в городах задач их застройки. Но ведь проблемы застройки городов этих стан отличаются от наших проблем как небо от земли. Там города исторически давно сложились, их застройка практически полностью сформирована и представлена капитальными зданиями и сооружениями, которые будут существовать еще многие десятилетия. Функционируют и развиваются эти города в благополучной, не знающей непредсказуемых изменений и срывов социально-экономической ситуации. И поэтому проблемы их застройки имеют локальный характер, состоят из каких-либо косметических реконструкций ограниченного числа штучных объектов, цена которых в своей массе существенно меняться не будет. В этих условиях вполне допустимо передать в ведение местной общественности решение вопросов о допустимом зональном правовом и градостроительном режиме организации городского строительства.
В России ситуация принципиально иная. Как мы уже отмечали, по данным выборочного анализа, до 30 процентов территории городов представляют пустыри. Более трети, а иногда и более двух третей существующей застройки – ветхие, подлежащие сносу здания и сооружения. В остальной части территорий городов имеется немало зданий и сооружений, принадлежащих предприятиям, которые по экологическим показаниям подлежат немедленному выносу за пределы городской черты.
Теперь представим, что в таком городе некоей комиссией, которая состоит из кого угодно, только не из профессиональных специалистов-проектировщиков, проведено «правовое» зонирование, определены (конечно же, достаточно свободные, с точки зрения функциональных, технико-технологических и градостроительных ограничений) типы разрешенной застройки, установлены (неизвестно, по каким меркам) выгодные (кому только?) формы собственности этих типов застройки и закреплены цены на ее продажу. Поскольку речь будет идти о пустырях, ветхой застройке и подлежащих ликвидации экологически вредных производствах, то и цены, естественно, будут демпинговые. Нетрудно представить, чем все это закончится: городская территория будет моментально раскуплена, члены «комиссии» получат свое, а потом за какую-либо приобретенную за бесценок развалюху, препятствующую организации жизненной среды города, реальный инвестор вынужден будет платить сполна, по самым высоким спекулятивным ценам. Как в этом случае сложится инвестиционный климат в городах?
Итак, на вопрос о том, какое земельное законодательство создается в России на переломе тысячелетий, мы в общих чертах ответили. Диагноз, увы, неутешительный.
Теперь пришла очередь извечному для России вопросу: что делать?
На этот вопрос мы постараемся ответить в следующих выпусках журнала.
Предлагаем разместить Вашу рекламу в нашем журнале!
Ежемесячный журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации» распространяется через агентства «Роспечать», «Книга-сервис», «Вся пресса», «АиФ», издательство «Известия» Управления делами Президента Российской Федерации на всей территории России и в странах СНГ.
Подписчиками журнала «Имущественные отношения в Российской Федерации» являются банки, страховые, риэлторские и аудиторские фирмы, оценочные и консалтинговые компании, комитеты по управлению имуществом и администрации муниципальных образований большинства регионов Российской Федерации.
Информация о Вашей фирме, опубликованная на страницах журнала, безусловно, вызовет интерес читателей.
|
Модуль |
Размер (см) |
Стоимость (у.е.) |
НДС (20%) |
Итого (у.е.) |
Наценки на обложку |
|
Полоса |
18,5 х 24,5 |
100 |
20 |
120 |
1-я полоса - 100% |
|
1/2 полосы |
18,5 х 12,1 |
60 |
12 |
72 |
2-я полоса - 30% |
|
1/4 полосы |
9,1 х 12,1 |
30 |
6 |
36 |
3-я полоса - 25% |
|
1/8 полосы |
1,5 х 19,5 |
10 |
2 |
12 |
4-я полоса - 50% |
|
Строчная реклама |
9,1 х 5,9 |
15 |
3 |
18 |
Мы надеемся, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным, и предлагаем Вам льготные цены на размещение рекламы.
Подписчики нашего журнала имеют возможность разместить свою рекламу
БЕСПЛАТНО!