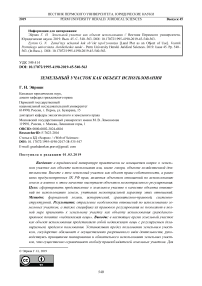Земельный участок как объект использования
Автор: Эйриян Г.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Гражданское право
Статья в выпуске: 3 (45), 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение: в юридической литературе практически не освещается вопрос о земельном участке как объекте использования или, иначе говоря, объекте хозяйственной деятельности. Вместе с тем земельный участок как объект права собственности, а равно иных предусмотренных ЗК РФ прав, является объектом отношений по использованию земель и именно в этом качестве выступает объектом межотраслевого регулирования. Цель: сформировать представление о земельном участке в качестве объекта отношений по использованию земель, учитывая межотраслевой характер этих отношений. Методы: формальной логики, исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный. Результаты: отраслевые особенности отношений по использованию земельных участков, а также специфика их правового регулирования не позволяют в полной мере применить к земельному участку как объекту использования гражданскоправовое понятие «недвижимая вещь». Выводы: в настоящее время земельный участок как объект использования представляет собой недвижимую вещь с регулируемым (планируемым) пределом пользования. Устанавливая предел пользования земельным участком, государство обязывает к осуществлению разрешенного вида деятельности, руководствуясь принципами планирования и обязательного использования земельных участков, что существенно ограничивает свободу правообладателей земельных участков. Для того чтобы сбалансировать общественные и частные интересы в сфере использования земельных участков, указанные принципы в условиях демонополизации государственной собственности на землю должны получить новое содержание.
Земельный участок, недвижимая вещь, природный ресурс, использование земельных участков, земельные имущественные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/147227594
IDR: 147227594 | УДК: 349.414 | DOI: 10.17072/1995-4190-2019-45-540-563
Текст научной статьи Земельный участок как объект использования
В специальной литературе неоднократно отмечалось, что «юридическое понятие “земельный участок” является исключительно важным для земельного права. Это понятие служит основой для регулирования земельных отношений» [24, с. 4]. Однако до настоящего времени в отечественной науке не сформирован единый подход к земельному участку как объекту земельных отношений, который бы объяснял, в чем заключается сущность этого объекта, каковы его основные характеристики.
Во многом такое положение вещей стало результатом непоследовательной государственной политики в области регулирования земельных отношений, отсутствия единых концептуальных подходов к формированию, а затем и развитию (совершенствованию) земельного и гражданского законодательства.
Отсутствие четкого представления о земельном участке как объекте земельных отношений влечет проблематичность выполнения наукой земельного права прогностической функции – предвидения развития соответствующих явлений, предвидения того, каким качественным или количественными изменениям подвергнутся эти явления [45, с. 13].
Между тем для современного земельного законодательства, одной из черт которого является высокая динамика развития, наличие научно обоснованных прогнозов развития является принципиально важным.
Проблемы в отношении определения земельного участка как объекта земельных правоотношений связаны со структурными изменениями в российском праве, с поиском оптимальной модели регулирования земельных отношений. При этом современные исследования носят односторонний характер, поскольку сосредоточены, в основном, на анализе земельного участка в качестве объекта права собственности, иных предусмотренных законом прав.
В литературе практически не освещается вопрос о земельном участке как объекте использования или, иначе говоря, объекте хозяйственной деятельности.
Следует отметить, что и в советский период как объект использования земельный участок специально не исследовался. Отношения землепользования рассматривались преимущественно через призму права государственной собственности на землю. А. А. Забелышенский, по мнению которого понятие земли как объекта хозяйства не получило достаточного учета в теоретических исследованиях по советскому земельному праву, следующим образом объяснял это обстоятельство: «Думается, что такое развитие науки земельного права является в известной мере объяснимым. По-видимому, необходимо было прежде всего осмыслить правоотношения земельной собственности и проблемы охраны земли как объекта государственной собственности. Усиленный акцент на эту область земельных отношений привел к тому, что и исследование отношений землепользования строились в значительной мере на базе понятия земли как объекта права собственности» [16, с. 8].
Вместе с тем земельный участок как объект права собственности, а равно иных преду- смотренных ЗК РФ прав, является объектом отношений по использованию земель и именно в этом качестве выступает объектом межотраслевого регулирования (абз. 2 п. 11 ст. 1 ЗК РФ).
С учетом сказанного представляется важным проанализировать земельный участок в качестве недвижимой вещи с учетом отраслевых особенностей отношений по использованию земель, а также специфики их правового регулирования.
Отраслевые особенности отношений по использованию земельных участков
-
С. С. Алексеев утверждал: «Объекты правоотношений (объекты субъективных прав) разнообразны в соответствии с многообразием регулируемых правом общественных отношений» [2, с. 292]. По его мнению, «учет отраслевых особенностей правоотношений – необходимая предпосылка научной разработки проблемы объекта» [2, с. 304].
Заслуживает внимания и вывод А. П. Дудина, посвятившего специальное исследование проблеме объекта правоотношения: «…понима-ние объекта правоотношения находится в прямой зависимости от понимания самого правоотношения» [15, с. 3].
В современных исследованиях, посвященных земельному участку как недвижимой вещи, его анализ в аспекте отраслевых особенностей земельных отношений, как правило, отсутствует1.
Более того, авторы не всегда уточняют, каким образом они очерчивают круг правовых отношений, объектом которых выступает земельный участок.
Между тем для определения центральных научных понятий охват ими некоторого спектра внешне однородных явлений недостаточен; однородными должны быть не внешние признаки объединяемых явлений, а их закономерность [5, с. 21].
Итак, прежде чем определить земельный участок в качестве объекта использования, следует установить особенности отношений по использованию земель.
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ЗК РФ, земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (земельные отношения).
В литературе верно замечено: «В теории земельного права в течение многих десятилетий существует формула, похожая на аксиому: использование и охрана земель (как, впрочем, и других природных ресурсов) – это две стороны одной медали, не существующие одна без другой, наглядно олицетворяющие один из законов диалектики – закон единства и борьбы противоположностей» [3, с. 26].
-
С. А. Боголюбов в результате анализа соотношения правового регулирования рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды констатирует: «…в российском законодательстве нормы о рациональном, надлежащем использовании природных ресурсов и их охране часто применяются как парные, параллельные и (или) неразделимые правовые категории» [7, с. 62].
Вместе с тем законодатель явно различает отношения по охране земель и отношения по их использованию: в абзаце 2 пункта 11 статьи 1 ЗК РФ выделены, но содержательно не определены отношения по использованию земель.
Как правило, термин «использование земель» подвергается анализу в целях толкования предмета земельного права. Так, например, Г. А. Волков, А. К. Голиченков, О. М. Козырь, комментируя ЗК РФ, отмечают: «При определении предмета регулирования Кодекс употребляет термин “использование земли”, но не “пользование землей”. В последнее время наметилась тенденция легального разграничения этих дефиниций в законодательных актах природоресурсных отраслей законодательства» [11]. По их мнению, «круг отношений по использованию земли гораздо более широкий, чем круг отношений по пользованию земельным участком. Так, в первом случае в него входят отношения, связанные с получением гражданами различными способами пользы от земли для удовлетворения своих материальных и иных потребностей в рамках общего природопользования. Например, использование земель лесного фонда – для сбора грибов, ягод и т. п.; земель водного фонда – для отдыха; земель общего пользования в городах и т. п. Во всех этих случаях использование земель осуществляется (если иное прямо не установлено в законе) без выделения конкретных земельных участков, без выдачи разрешения (лицензии)» [11].
Действительно, из положений ЗК РФ следует, что земельный участок – это один из возможных объектов использования, поэтому нельзя согласиться со следующим утверждением: «Если земля как природный ресурс уже используется на законных основаниях в хозяйственной или иной деятельности, то такое использование не может протекать иначе, как в виде использования земельного участка» [33, с. 64].
Помимо земельного участка к числу объектов использования в настоящее время можно отнести землю, часть земельного участка1.
Использование земельного участка, по существу, та же эксплуатация земель, т. е. получение различными способами пользы от земли как от естественного средства производства, естественного пространственного базиса2.
С точки зрения закона использование земельного участка возможно лишь после образования конкретного земельного участка и возникновения на него права как на недвижимую вещь.
Указанное обстоятельство обусловливает применение к отношениям по использованию земель (в данном случае под землями, видимо, следует понимать земельные участки) принципа разграничения действия норм гражданского законодательства и норм земельного законодательства (абз. 2 подп. 11 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).
К настоящему времени единая позиция о соотношении указанных отраслей законодательства в сфере использования земельных участков учеными не выработана.
Более того, нет единодушия в решения вопроса о природе отношений по использованию земельных участков, а также их соотношении с гражданско-правовыми имущественными отношениями.
И. А. Иконицкая, Н. И. Краснов, Г. С. Башмаков утверждали: «Земельные отношения, безусловно, являются имущественными, тем более в условиях частной собственности на землю, поэтому они не могут не подпадать в определенной мере под регулирование гражданским правом, но и в этих условиях земля представляет собой особый вид имущества, именуемый недвижимостью» [19, с. 189].
Г. А. Волков обоснованно замечает: «…спо-собность земельного участка быть объектом права собственности и иных предусмотренных ЗК РФ прав на землю является элементом его правового режима, который, в свою очередь, по смыслу п. 1 ст. 6 и п. 2 ст. 7 ЗК РФ, зависит от принадлежности земельного участка к той или иной категории земель и его разрешенного использования.
Более того, содержание права собственности на земельный участок, в том числе правомочий владения, пользования и распоряжения, а также иных предусмотренных ЗК РФ прав на землю, определяется именно нормами земельного права, других природоресурсных отраслей права, нормами других специальных законов (ст. 3 ЗК РФ)» [10, с. 19].
-
А. П. Анисимов, К. Г. Пандаков, А. Е. Черноморец справедливо полагают: «…раскрыть смысл “использования земель” невозможно без установления правовых оснований и титула такого использования» [4, с. 42].
В юридической литературе отражена и другая точка зрения в отношении состава земельных отношений, суть которой заключается в противопоставлении земельных и имущественных отношений, с исключением последних из сферы регулирования земельного права.
«Совершенно очевидно, – считает Н. Н. Мисник, – что земельные отношения и имущественные отношения – не одно и то же» [33, с. 62].
По мнению Е. А. Суханова, «…предмет земельного права составляют лишь “отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории” (п. 1 и п. 3 ст. 3 ЗК), т. е. земля (земли) как природный ресурс. К ним относятся мониторинг земель и землеустройство; отношения, связанные с ведением государственного земельного кадастра; определение целевого назначения земель и контроль за его соблюдением; охрана земель и контроль за их использованием (земельный контроль) и тому подобные отношения публично-правового (по существу – административно-правового) характера» [40].
-
В. В. Чубаров, анализируя развитие кодификации российского земельного законодательства (взгляд с позиций частного права), приходит к следующему выводу: «Согласно п. 1 ст. 3 ЗК РФ 2001 г., к земельным отношениям отнесены лишь отношения по использованию и охране земель как основы жизни и деятельности народов, т. е. отношения, подлежащие регулированию нормами публичного права. Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними вынесены за скобки земельных и по общему правилу должны регулироваться гражданским законодательством (п. 3 ст. 3 ЗК РФ 2001 г.)» [46].
Н. Ю. Чаплин отмечает: «…правовое регулирование отношений, связанных с землей, в рамках земельного законодательства должно быть ограничено нормами, направленными на использование и охрану земли как основы жизни и как общественного достояния. Использование земли предполагает эксплуатацию ее территорий для жизни и видов деятельности. Следовательно, использование земель должно сопровождаться максимально эффективным вовлечением в хозяйственный оборот всех земель и их рациональным использованием» [44, с. 156].
Он подчеркивает: «…гражданские правоотношения возникают не по поводу земли как природного ресурса, а по поводу земли, которая обладает определенными качествами, позволяющими назвать ее правовой категорией. Земля же, как природный ресурс или, как определено в законе, “достояние народов, проживающих на соответствующей территории”, именно в этом качестве должна оставаться предметом земельного права.
В связи с этим целесообразным видится перенос законодательного определения земельных участков как объектов права собственности и иных вещных прав в ГК РФ» [44, с. 158].
Таким образом, представители науки гражданского права резко противопоставляют отношения по использованию земли как природного ресурса, с одной стороны, и имущественные отношения, возникающие по поводу земельных участков, с другой. В основе такого подхода находится идея об «изъятии» земельного участка из числа объектов земельного права и, соответственно, имущественных отношений из предмета земельного права.
Если встать на позицию представителей науки гражданского права, то тогда следует ответить на вопрос: каким образом можно достичь «эффективное вовлечение в хозяйственный оборот всех земель и их рациональное использование» без распределения земли как природного ресурса между отдельными субъектами права?
Распределение земли как природного ресурса, как правило, осуществляется посредством решения вопроса о правах на земельные участки. «По большей части споры о природных ресурсах разрешаются путем определения того, кто имеет право на использование, то есть путем участия в “разговорах о правах”» [49].
Е. Л. Минина верно замечает: «Не будет преувеличением сказать, что вся система правового регулирования земельных отношений так или иначе связана с обеспечением рационального распределения и перераспределения земельных ресурсов в целях возможно более эффективного их использования» [32, с. 215].
Квалификация земельного участка в качестве недвижимого имущества лишь усложняет правовое регулирование отношений по использованию земельных участков, а не влечет «изъятие» имущественных отношений из сферы регулирования земельного права, поскольку, по общему правилу, использование земельных участков не существует отдельно от правооб-ладания ими, а «…владение землей само по себе не есть еще производство, оно составляет лишь необходимое его условие» [43, с. 4].
При этом следует помнить, что «…главной целью присвоения участка земли и главной конечной целью оборота земельных участков является их последующее использование. Поэтому разорвать этот комплекс отношений на отношения, которые регулируются нормами гражданского права или только нормами земельного права, не представляется возможным с позиций юридической логики» [25, с. 10].
При решении вопроса о соотношении имущественных отношений и отношений по использованию земельных участков важно учесть, что демонополизация государственной собственности на землю не означает отказ государства от идеи регулировать использование земель в интересах всего общества1.
О подчинении использования земельных участков публичным интересам свидетельствует зарубежный опыт, в частности законодательство Японии, США [56].
Обращает на себя внимание следующий факт: «Широкое и масштабное вмешательство государства в процесс использования земель – это новая реальность современного капитализма» [13, с. 38].
По мнению М. Ю. Галятина, «основным противоречием современной земельной политики является стремление удержать землю в рамках частной собственности и одновременно приспособить ее использование к нуждам и потребностям современного общества. Именно поэтому сущность правового регулирования использования земель противоречива и включает меры по укреплению прав собственности, и в то же время, меры по расширению прав государственных органов в области планирования использования земель, зонирования» [13, с. 128].
С учетом сказанного вряд ли возможно резко противопоставлять отношения по использованию земельных участков и имущественные отношения.
В рамках земельного законодательства использование земельных участков – это имущественные отношения особого рода, являющиеся по сути эколого-экономическими отношениями, отношениями по природопользованию2, правовое регулирование которых базируется на принципиально иных началах, чем правовое регулирование использования других объектов недвижимого имущества.
Эколого-экономический характер отношений по использованию земельных участков нашел отражение, в частности, в принципе учета значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе , используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю (подп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).
Исходя из указанного выше принципа следует, что в отношениях, связанных с использованием земельного участка, последний квалифицируется не только как недвижимое имущество (объект права собственности и иных прав на землю), но и одновременно как природный ресурс (средство производства, основа осуществления хозяйственной и иной деятельности).
Земельный участок как природный ресурс и недвижимое имущество: многоаспектность или многообъектность?
Взгляд на земельный участок с разных позиций, которые условно можно обозначить как земельный участок – природный ресурс и земельный участок – вещь (товар), можно оценить двояко.
Так, например, Г. А. Волков полагает: «В принципе учета значения земли как основы жизни и деятельности человека закреплено многоаспектное ее значение, в первую очередь как природного объекта. Межотраслевой характер данного принципа имеет важное практическое значение. Констатация в федеральном законе многоаспектного значения земли позволила подвести итог давним дискуссиям: каким законодательством должны регулироваться земельные отношения (прежде всего отношения по использованию земель) – только земельным, или только гражданским, или комплексно, и земельным, и гражданским, или иным специ- альным, в том числе законодательством о градостроительстве.
Принцип о многоаспектном значении земли логически развит в решении вопроса о соотношении правовых норм различных отраслей законодательства в регулировании земельных отношений» [9].
По мнению Е. А. Суханова, «никакой специфики земельно-правового регулирования здесь … не просматривается. Наоборот, речь идет об очевидном смешении разнородных подходов к предмету, с необходимостью влекущем затем противоречия в законодательном регулировании, которых вполне можно было избежать» [39, с. 53].
Многоаспектности земли, объединяющей экологические и экономические характеристики земли в одном объекте – земельном участке, цивилисты противопоставляют ее много-объектность или разнообъектность, полагая возможным «разделить» земельный участок как объект использования, если представить его как нечто целое, на «составные части», каждая из которых является самостоятельным объектом права, причем разных отраслей законодательства.
Отрыв недвижимости от другой стороны – природного объекта, части окружающей природной среды В. В. Петров справедливо называл ошибкой конституционного порядка, ссылаясь на статью 9 Конституции РФ [36, с. 170], из текста которой с очевидностью следует, что объектом права частной собственности является земля как природный ресурс.
Тот факт, что земельный участок включен в гражданский оборот в форме «поверхности земли с установленными границами», в отличие от земли как «поверхности без установленных границ», не имеет значения для характеристики физической природы объекта.
О. И. Крассов справедливо замечал по этому поводу следующее: «После того как в землю вбиты колышки, обозначающие границы участка, эта индивидуализированная часть земли не утрачивает своих качеств как природного объекта и природного ресурса. Именно поэтому в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 ЗК РФ закреплен принцип учета значения земли как основы жизни и деятельности человека, упоминавшийся выше» [23, с. 11].
Серьезное возражение противопоставление земли (как природного объекта и природного ресурса) и земельного участка (ст. 6 Земельного кодекса РФ) вызывает у Н. Г. Нарышевой. «Представляется, что образование земельного участка посредством определения его границ и постановки на государственный кадастровый учет не прекращает существование в установленных границах природного объекта и природного ресурса. Правовое регулирование использования и охраны земельного участка осуществляется с учетом того, что последний является частью природной среды и не утрачивает признаки и функции природного ресурса и природного объекта. В связи с этим целесообразной представляется выработка такого легального определения земельного участка, которое отражало бы его сущность как природного объекта и природного ресурса с одновременным исключением описанного выше противопоставления земли и земельного участка», – отмечает автор [35, с. 40].
Е. А. Галиновская справедливо утверждает: «Часть поверхности земли, становясь земельным участком, как известно, не теряет ни одного из своих естественных свойств. А оборот земельных участков тем и интересен, что обмену подлежат участки, обладающие неповторимыми природными свойствами» [12, с. 108].
Отметим, что сторонники «неприродного» подхода к земельному участку как объекту использования до сих пор не сформулировали критерий, научно обосновывающий и объясняющий возможность «вычленения» из него природного ресурса в качестве самостоятельного объекта.
Одна из причин резкого противопоставления понятий «недвижимость» и «природный ресурс» заключается в отсутствии четкого понимания смысла квалификации земли в качестве природного ресурса.
В юридической литературе высказаны различные мнения относительно смысла и назначения категории «природные ресурсы». По мнению О. И. Красновой, смысл появления термина «природные ресурсы» недостаточно понятен, так как он не выявляет никакого нового объекта экологических отношений, а лишь путем перечисления включает в его содержание уже имеющиеся и определенные в законе «Об охране окружающей среды» объекты» [22].
Е. Л. Минина, напротив, считает, что «…нормативное определение понятия “природные ресурсы” представляется абсолютно необходимым, а размещение его в Законе об охране окружающей среды вполне оправданным» [31, с. 46]. Вместе с тем она не уточняет, какую цель преследует законодатель, оперируя понятием «природные ресурсы», в части регулирования отношений по использованию земельных участков.
На наш взгляд, понятие «природный ресурс» употребляется как экономический термин для характеристики использования земли в общественном производстве: земли используются в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности (подп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).
Сказанное в полной мере относится и к использованию земельных участков. Земельный участок, являясь объектом права частной собственности (а равно иных прав, предусмотренных законодательством), одновременно играет роль фактора производства.
Важно, что указанное значение земельного участка – быть незаменимым условием практически любой хозяйственной деятельности – игнорируется современным гражданским законодательством.
По мнению В. А. Лапача, «...в качестве признака, характеризующего непосредственно гражданско-правовое понятие именно вещей ... следует признать принципиальную относимость предметов к средствам производства и предметам потребления... Еще совсем недавно любая классификация вещей, предпринимавшаяся в учебниках и монографиях по советскому гражданскому праву, исходила из необходимости такой дифференциации» [27, с. 319].
Согласимся с ним в том, что «вероятно, в порядке своеобразной реакции отторжения на чрезмерно политизированное и идеологизированное гражданское законодательство советского периода упоминание о такой еще недавно базовой классификации вещей теперь встречается преимущественно лишь как ссылка на факт в истории отечественной науки гражданского права. Между тем для столь резкого аф- ронта по отношению к такому делению вещей оснований в действительности нет» [27, с. 320].
Не различать вещи с точки зрения их принципиальной относимости к средствам производства и предметам потребления – не видеть разницы «между землей и помидорами, выращенными на ней» [8].
В отличие от гражданского законодательства в земельном законодательстве так же, как и в советский период, земельные участки рассматриваются не только как объекты права, но и одновременно как факторы производства, чем и обусловлена квалификация земли (земельных участков) в качестве природного ресурса.
По-прежнему актуальны следующие суждения: «Земля участвует в реальном процессе воспроизводства, лишь приняв определенную общественную форму, став объектом чьей-либо собственности. В этом состоит необходимая предпосылка превращения земли в действительный элемент производительных сил и необходимый момент реального использования земли в процессе общественного воспроизводства.
Производительное использование земли предполагает то или иное ее распределение между людьми, в результате которого земельная площадь оказывается во власти определенных лиц, превращается в предмет проявления их воли» [43, с. 4].
С учетом сказанного выше нет никаких оснований для противопоставления таких понятий, как «земельный участок» и «природный ресурс», поскольку они характеризуют разные стороны (аспекты) одних и тех же явлений.
Квалификация земельного участка в качестве природного ресурса обеспечивает возможность государственного вмешательства в производственные отношения, связанные с использованием земельных участков, независимо от того, кому и на каком праве они принадлежат.
Оперируя понятием «природный ресурс», законодатель определяет пределы использования земельных участков, учитывая естественные свойства земли и экономический характер ее использования1.
Пределы использования земельных участков: свобода или планируемый результат?
В действующем законодательстве пределы использования земельного участка определяются на основе его целевого назначения. В соответствии со статьей 260 ГК РФ: «На основании закона и в установленном им порядке определяются земли сельскохозяйственного и иного целевого назначения, использование которых для других целей не допускается или ограничивается. Пользование земельным участком, отнесенным к таким землям, может осуществляться в пределах, определяемых его целевым назначением».
Определить целевое назначение земель, в самом общем виде, означает применить к построению прав и обязанностей лиц, использующих земельные участки, функциональный подход.
В результате такого подхода отдельные свойства земли как природного ресурса, способные удовлетворять экономические потребности общества, приобретают относительно самостоятельное значение и выражаются в праве путем указания на допустимые виды деятельности в границах земельного участка.
«Цель землепользования – это та деятельность, которую по закону разрешается осуществлять на предоставленном в пользование земельном участке» [21, с. 13].
Функциональный подход к построению прав и обязанностей лиц, использующих земельные участки, принципиально отличается от цивилистического подхода, в рамках которого, содержание права зависит от его титула.
Для функционального подхода вид права, на котором используется земельный участок, не имеет принципиального значения. Как следствие, в земельном законодательстве выделяют различные виды земельных участков с точки зрения допустимой на них хозяйственной деятельности.
А. А. Забелышенский полагал возможным наряду с земельным участком как объектом собственности выделять земельный участок как объект хозяйства. Он отмечал: «Ценность понятия земли как объекта хозяйства состоит в том, в частности, что именно присущие земле свойства в этом ее качестве и необходимость придания им правового значения побуждают … вырабатывать и проводить в жизнь систему правовых норм, составляющих в своей совокупности правовой режим землепользования применительно к отдельным частям земельного фонда как объекта хозяйства с учетом их основного целевого назначения и непосредственной цели использования» [16, с. 9–10].
Функциональный подход к построению прав и обязанностей в отношении земельных участков был сформирован в советский период, однако вряд ли его следует рассматривать как правовое явление, характерное исключительно для социалистических земельных отношений, основанных на монополии государственной собственности на землю.
Так, например, М. Ю. Галятин, изучив американское законодательство в области регулирования использования земель, констатирует: «Осмысление практики правового регулирования использования земель американскими учеными, законодателями и судьями имело своим результатом конкретизацию легальной схемы права собственности в сфере регулируемых общественных отношений – отношений землепользования» [13, с. 70].
«Соответственно изменилось и понятие земли как объекта права собственности. Оно отныне не совпадает по своему объему с понятием “земля” или “земельная собственность” по американскому гражданскому праву, по которому она относится к категории недвижимого, реального имущества (real property)» [13, с. 71].
М. Ю. Галятин отмечает: «…функцио-нальные признаки земли становятся самостоятельной правовой категорией в отличие от гражданского права», объясняя это тем, что в отношениях по использованию земля – это объект воздействия со стороны собственника, необходимое условие его деятельности [13, с. 72].
Важно, что функциональные признаки земли невозможно учесть (отразить) в понятии земельного участка, используя только гражданско-правовые средства, поскольку последние системно связаны исключительно с целями гражданско-правового регулирования.
«Понятие земельного участка необходимо для того, чтобы монополизировать право одного лица использовать некоторое пространство исключительно для своих нужд, – утверждает К. фон Бар. – … земельный участок – это плод юридического воображения. Земельные участки не существуют сами по себе, поэтому они не отделены физически друг от друга. Их индивидуализация является плодом деятельности юристов» [6, с. 121].
Как следствие, в цивилистике рассуждения о земельном участке – это, как правило, рассуждения о «поверхности земли» и «границах».
Так, по мнению К. И. Скловского, В. С. Костко, «идея недвижимости, опирающаяся на неприродное, человеческое понятие поверхности земли, состоит в идее о границах, которая всегда и обязательно предшествует появлению участка и определяет его создание как вещи» [37, с. 137].
Особое внимание границам земельного участка уделяет и В. А. Алексеев, полагая, что «…в соответствии с действующим законодательством единственным индивидуализирующим признаком земельного участка является местоположение его границ» [1, с. 72].
Аналогичную позицию занимает Н. Ю. Чаплин: «… действительно уникальной характеристикой любого земельного участка является только одна – его местоположение. Именно в силу своего местоположения, которое устанавливается его границами, земельный участок становится уникальной индивидуально-определенной вещью. Более того, именно местоположение обусловливает привлекательность земельного участка как объекта права собственности и во многом определяет его рыночную стоимость» [44, с. 160].
Безусловно, границы земельного участка имеют важное значение: благодаря им стабилизируется хозяйственная деятельность на земле, землепользованию придается устойчивость; без них проблематичен (практически невозможен) гражданский оборот земельных участков и защита прав на них.
Вместе с тем «идея о границах» как основа «идеи о недвижимости» не связана с фактическим (физическим) воздействием на землю, направленным на получение пользы от нее как природного ресурса.
В зарубежной литературе верно замечено: «Земля состоит из систем, определяемых их функциями, но не искусственными границами» [55].
«Границы, которые мы рисуем между фермой А и ранчо В, не имеют никакого значе- ния в терминах природы. Дело в том, что границы полезны по вопросам человека и человека, но они не имеют никакого отношения и мало значат в вопросе, как люди относятся к Земле» [53, p. 1279].
Возможность эксплуатации земли как природного ресурса, являющейся сутью использования земельных участков, обусловлена наличием у нее свойств, которые способны удовлетворять потребности отдельного человека и общества в целом. Эти свойства имеют объективный характер и явно не являются результатом работы воображения, а скорее наоборот, отражают знания, представления общества о земле в определенный исторический период.
Указанное обстоятельство объективно ограничивает возможности общества в области использования земель, а следовательно, и перемены (реформы) в этой сфере всегда относительны.
«Сравнение во времени, история поземельного права, особенно же история земельной собственности – с одной стороны, и сравнение в пространстве, изучение географическое – с другой, – обнаруживают значительное разнообразие в нормах и даже в основных принципах поземельно-правового порядка, историческое изменение их во времени и географическое – в пространстве» [18, с. 5]. Исходя из этого исследователи XIX века делали следующий вывод: «…мы имеем здесь дело с историческими и местными категориями, с отношениями, которые подвергались изменению, а стало быть a priori способны и к дальнейшему изменению». Вместе с тем они с крайней осторожностью относились к коренным преобразованиям исторически сложившегося, уже укоренившегося правового порядка и предостерегали нас от мысли, будто в правовом строе легко можно производить какие угодно перемены на том основании, что в истории замечается изменение этого строя» [18, с. 6–7].
Свои выводы они базировали на следующих суждениях: «… внешняя природа … и физико-психическая природа человека, особенно в те исторические периоды, с которыми исключительно приходится иметь дело при решении исторических вопросов, представляют из себя нечто, хотя и не совершенно неизменное, но всяком случае в существенных своих свойствах постоянное.
Отсюда следует, что и в поземельноправовом строе, в соответствии с постоянством в основных своих чертах внешней природы и природы самого человека, известные основные черты, при всей изменчивости правовых норм и форм, остаются и должны оставаться неизменными» [18, с. 6].
Включение земельных участков в гражданский оборот в качестве недвижимой вещи не изменило, да и в принципе не могло изменить ни внешней природы, ни природы самого человека, поскольку возможности общества в части получения пользы от земли как природного ресурса принципиально не связаны с тем, является земельный участок товаром или нет.
«И в основании вещи быть товаром и в основании вещи иметь особые формы для обращения лежат не физические и химические свойства ее, а общественно-экономические и политические отношения. Это именно надо иметь в виду для определения понятия недвижимости в юридическом смысле» [30, с. 101].
Вместе с тем объективным свойствам земли противостоит субъективный подход законодателя в определении тех потребностей, которые в зависимости от типа правового регулирования – дозволительного или разрешительного – могут или должны быть удовлетворены в процессе использования земельных участков.
В советском законодательстве потребности, удовлетворяемые посредством использования земельных участков, определялись путем деления всех земель по целевому назначению.
В юридической литературе того времени право государства определять цель использования земельных участков, как правило, обосновывали наличием у него исключительного права собственности на всю землю [38, с. 112; 41, с. 10–11; 42, с. 142, 175].
Важно, что распоряжение землей осуществлялось государством на основе планирования как принципа государственной деятельности (ст. 11 Конституции СССР 1936 г. и ст. 16 Конституции СССР 1977 г.), в соответствии с народнохозяйственными планами в интересах роста общественного благосостояния, неуклонного повышения материального и культурного уровня жизни трудящихся.
А. А. Забелышенский считал, что планирование использования земельных ресурсов страны занимает особое место в советском земельном праве СССР. По его мнению, «…основные функции государства по управлению земельным фондом и закрепленные в земельном законодательстве принципы земельного права могут быть реализованы полностью только на базе плана использования земельных ресурсов страны, разработанного в общем и региональном масштабах» [17, с. 168].
Свое мнение он подтверждал следующими примерами: без плана невозможно научно обоснованно осуществлять функции распределения и перераспределения земель, предоставление земельных участков в пользование (отвод) и изъятие земель с соблюдением требований таких принципов, как приоритет сельскохозяйственного землепользования перед другими видами землепользования, устойчивость землепользования, рациональное и комплексное использование земли [17, с. 168] .
Планирование использования земель по-прежнему является необходимым условием достижения целей государственной политики по управлению земельным фондом: повышение эффективности использования земель, охрана земель как основного компонента окружающей среды и главного средства производства в сельском хозяйстве при обеспечении продовольственной безопасности страны1.
В современном смысле планирование представляет собой попытку координировать развитие всех взаимосвязанных между собой аспектов физической среды и социальноэкономических условий [57].
Радикальные изменения в регулировании отношений земельной собственности в РФ обусловливают дополнительную сложность планирования использования земель, поскольку создание условий для организации рационального и эффективного использования земельных участков включает в себя не только учет общественных и отраслевых потребностей, требований устойчивого развития территорий, но и соблю- дение гарантий прав участников земельных от-ношений2.
Государство, осуществляя планирование использования земель, по сути принудительно определяет содержание деятельности в отношении всех земельных участков, в том числе и тех, которые используются на праве частной собственности.
Определение целей использования земельных участков, пожалуй, самое существенное вторжение государства в хозяйственную деятельность их правообладателей, которое нередко приводит к конфликту частных и публичных интересов.
Согласимся, что «среди многих конкурирующих интересов в сфере управления землепользованием, возможно, нет ничего более фундаментального, чем потенциальный конфликт между правами частных собственников и правами общества в целом» [50, p. 629].
В Основах государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012–2020 гг. совершенствование порядка определения правового режима земельных участков путем исключения из земельного законодательства принципа деления земель по целевому назначению на категории отнесено к основным направлениям государственной политики по управлению земельным фондом.
В юридической литературе вопрос об отмене деления земель на категории получил широкое освещение. Анализ данного вопроса не входит в задачи настоящего исследования, отметим лишь, что, даже исключив из земельного законодательства принцип деления земель по целевому назначению на категории, государство вряд ли сможет организовать рациональное использование земель без планирования их использования, которое так или иначе будет включать в себя распределение различных видов деятельности на определенной территории.
Последнее невозможно без определения того, что понимать под общим благом (общественными интересами) в сфере использования земельных участков, и решения вопроса о соотношении общего блага (общественных интересов) с интересами частных собственников.
В этой связи интерес представляет следующее замечание, высказанное в зарубежной юридической литературе: «…американское право всегда считало, что частные имущественные интересы ограничиваются общественными интересами, часто в значительной степени. Однако, что представляет собой общественный интерес и, соответственно, как он может ограничивать использование частной собственности, обязательно со временем меняются. Общество не является статичным, а ценности и воспринимаемые социальные интересы, достаточные для ограничения использования собственности, будут варьироваться в зависимости от меняющихся социальных условий. Более того, наши знания и понимание природы и земли значительно изменились за эти годы, что привело к новому пониманию того, как мы рассматриваем землю и какую роль она может играть в удовлетворении социальных потребностей» [50, p. 643].
С учетом сказанного можно предположить, что основной проблемой законодателя в обозримом будущем станет регламентация потребностей, удовлетворяемых в процессе использования земельных участков, в частности, решение вопроса о том, кто вправе определять эти потребности и каким образом при этом достигается баланс между интересами общества и правами частных собственников.
Следует заметить, что указанные проблемы актуальны не только для развития российского законодательства. Так, например, Т. Фрейзер замечает следующее. Позитивистский подход к имущественному праву должен вызывать по крайней мере три вопроса. Кто является «сообществом» для выбора между разумными и необоснованными ожиданиями? Как «сообщество» идентифицирует индивидуальные интересы и интересы общества, которые должны быть сбалансированы, чтобы судить о разумности любого данного ожидания? Каким образом сообщество уравновешивает эти интересы, чтобы выбрать то, что разумно, а что нет? [51]
Обязательное использование или недопустимость понуждения к пользованию земельными участками?
-
С. С. Алексеев утверждал: «Содержание правоотношения – отправной пункт исследования объекта права» [2, c. 299].
Если анализировать земельный участок исходя из тех прав и обязанностей, которые возникают в связи с его использованием, то следует отметить, что они не образуют содержательно однородную совокупность.
В силу пункта 3 статьи 3 ЗК РФ, отношения по использованию земельных участков, будучи имущественными отношениями, являются предметом регулирования как земельного, так и гражданского законодательства. При этом указанные отрасли законодательства принципиально различаются по функциям, типу, принципам правового регулирования отношений, что в итоге и обусловливает разный подход в части определения прав и обязанностей в отношении земельного участка.
Права и обязанности собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков по использованию земельных участков (ст. 40–42 ЗК РФ) сформулированы таким образом, что земельный участок – это объект обязательного использования.
Так, согласно статье 42 ЗК РФ, собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
Принцип обязательного использования земельных участков был закреплен в советском законодательстве. В статье 11 Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных республик 1968 г. было установлено, что землепользователи имеют право и обязаны пользоваться земельными участками в тех целях, для которых они им предоставлены.
Комментируя статью 11 Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных республик 1968 г., Н. А. Сыродоев отмечал: «Одной из особенностей прав и обязанностей землепользователей является то, что они нередко тесно связаны между собой. В ст. 11 Основ прямо предусматривается, что землепользователь не только имеет право, но и обязан пользоваться земельным участком в тех целях, для которых он ему предоставлен. Тем самым на землепользователя возлагается обязанность по реализации предоставленного ему права. Землепользователь не имеет права оставить предоставленный ему участок без употребления.
С другой стороны, землепользователь обязан использовать его в соответствии с установленной целью» [20, с. 78].
Авторы учебника по советскому земельному праву 1981 г. полагали: «Наиболее сложными по структуре и содержанию прав и обязанностей являются правоотношения природопользования. Своеобразие права природопользования заключается в том, что оно охватывает права и обязанности, возникающие между при-родопользователем и государством – собственником природных объектов, а также между природопользователем и другими субъектами права. Указанные две группы прав и обязанностей составляют в своем единстве содержание правоотношения природопользования. Именно этим объясняется то, что пользование соответствующим природным объектом представляет собой одновременно и право, и обязанность природопользователя (ст. 11 Основ земельного законодательства, ст. 14 Основ законодательства о недрах, ст. 17 Основ водного законодательства, ст. 34 Основ лесного законодательства). Обязанность природопользователь несет перед государством. Во взаимоотношениях же с другими субъектами права пользование природным объектом выступает как правомочие природопользователя» [38, с. 70–71].
В действующем ЗК РФ принцип обязательного использования земельных участков прямо не закреплен, в связи с чем возникает вопрос: является ли обязательность использования принципом современного земельного законодательства? Если да, то какова сфера его применения?
О. И. Крассов полагал, что «...земельное законодательство закрепляет принцип, согласно которому осуществление собственником своего права на землю является одновременно его обязанностью» [26, с. 123].
На наш взгляд, законодатель не руководствуется принципом обязательного использования земельных участков в качестве общего правила. К обязательному использованию земельных участков современный законодатель понуждает лишь в отношении наиболее значимых, с позиций общественных интересов, сфер производства.
Например, термин «обязательное использование земельных участков» законодатель употребляет в Положении о государственном земельном надзоре1, устанавливая, что к полномочиям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальных органов относится, в частности, государственный земельный надзор за соблюдением требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение установленного срока земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях.
К полномочиям Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных органов относится осуществление государственного земельного надзора за соблюдением требований, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.
Из текста статьи 8.8. КоАП РФ следует, что ответственность за неиспользование земельного участка наступает только в том случае, если обязанность по использованию земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.
В настоящее время в установленном порядке предусмотрено обязательное использование земельных участков для товарного сельскохозяйственного производства, жилищного или иного строительства.
Что касается земельных участков, предназначенных для садоводства, огородничества, то обязательность их использования ни законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»2, ни каким-либо иным федеральным законом не предусмотрена.
Отсутствие указания на обязательность использования садовых и огородных земельных участков в федеральном законе вряд ли является упущением законодателя, учитывая, что такие земельные участки предназначены для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения различного рода построек.
На наш взгляд, обязательность использования садовых и огородных земельных участков может быть предусмотрена законодателем только в случае дефицита таких участков, иных оснований для ограничения свободы их использования не усматривается1.
Избирательность в применении принципа обязательного использования земельных участков путем определения сферы его применения необходима в связи с включением земельных участков в гражданский оборот в качестве недвижимой вещи, права и обязанности в отношении которой построены на принципиально иной основе.
В свете принципов гражданского законодательства недвижимость – это не идея о границах, а, прежде всего, идея о свободе, которая, по общему правилу, не оставляет места обязательности использования земельных участков.
Идея частной собственности основана на индивидуализме и свободе использовать свою собственность способом, который максимизирует отдельные предпочтения [48, p. 710]. Индивидуализм и свобода находят свое закономерное выражение в характере прав и обязанностей участников гражданских правоотношений.
Так, например, В. Ф. Яковлев, анализируя структуру гражданских правоотношений, отмечал: «Построение прав и обязанностей участников отношений отображает и такие свойства гражданско-правового регулирования, как его дозволительную направленность, наделение субъектов юридической диспозитивностью и способностью к проявлению правовой инициативы» [47, с. 31]. Подчеркивая существенные различия в структуре правосубъектности раз- ных отраслей, он полагал, что «…гражданская правосубъектность по своей структуре проявляет себя в первую очередь как правоспособность, т. е. способность к обладанию субъективными правами и связанными с ними юридическими обязанностями» [47, с. 27].
В качестве одного из своих элементов гражданская правосубъектность включает в себя правовую свободу лица в осуществлении самой правосубъектности [47, с. 28].
С учетом отмеченных выше особенностей гражданской правосубъектности возникает вопрос: каким образом правовая свобода лица в осуществлении гражданской правосубъектности влияет на содержание прав в отношении земельного участка как объекта использования? Означает ли такая правовая свобода лица возможность правомерного неиспользования земельного участка и определение содержания деятельности в границах земельного участка самостоятельно, исключительно по своему усмотрению?
В соответствии со статьей 209 ГК РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Таким же образом – через классическую триаду полномочий – законодатель раскрывает содержание использования недвижимого имущества и в ЗК РФ.
По общему правилу, собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).
В отношении пользования земельным участком действует иное правило: «На основании закона и в установленном им порядке определяются земли сельскохозяйственного и иного целевого назначения, использование которых для других целей не допускается или ограничивается. Пользование земельным участком, от- несенным к таким землям, может осуществляться в пределах, определяемых его целевым назначением».
Ограничивая пользование земельным участком его целевым назначением, законодатель существенно ограничил его правообладателя в свободе определять содержание деятельности в границах принадлежащего ему земельного участка. При этом в ГК РФ нет прямого ответа на вопрос о возможности не пользоваться земельным участком, как это сделано в законодательстве ряда стран.
Так, например, в статье 152.3 ГК Азербайджанской Республики установлено: «Право пользования включает и возможность неиспользования своей вещи»1.
В ГК Грузии (п. 3 ст. 170) закреплено: «Право пользования включает в себя также возможность лица не пользоваться своей вещью. Законом может быть установлена обязанность пользования или ухода и содержания, если неприменение этой вещи или отсутствие ухода за ней посягает на общественные интересы. В этом случае на собственника может быть возложена обязанность исполнить эти обязанности самому или передать эту вещь в пользование других лиц за соответствующее возна-граждение»2.
В силу общеправового принципа (п. 2 ст. 1 и п. 1 ст. 9 ГК РФ) граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им права по своему усмотрению, т. е. исходя из своей воли и своего интереса. По мнению ВС РФ, из этого следует недопустимость понуждения лиц к реализации определенного поведения, составляющего содержание прав3.
Однако этот принцип не применим в полной мере к использованию земельных участков, о чем свидетельствует, в частности, статья 284 ГК РФ. Из ее содержания следует, что государство возлагает на собственника обязанность по использованию земельного участка, предназна- ченного для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства. В случае неисполнения указанной обязанности в течение установленного в федеральном законе срока право на земельный участок может быть принудительно прекращено.
При решении вопроса об обязательности использования земельных участков следует учесть, что использование земельных участков может быть «непосредственным» и «в целях извлечения прибыли». Возможность такой дифференциации использования земельных участков следует, в частности, из правоприменительной практики4.
На наш взгляд, устанавливая обязательность использования земельных участков для товарного сельскохозяйственного производства, жилищного или иного строительства, законодатель имеет в виду их непосредственное использование, явно руководствуясь важностью результата использования таких земельных участков для общества в целом.
Указанный вывод находит подтверждение в правоприменительной практике. Так, например, Арбитражный суд Московской области, установив факт неиспользования земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с момента его приобретения и на момент проведения проверки, отказал в удовлетворении требования об отмене актов о привлечении к административной ответственности по статье 8.8 КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению). Суд отклонил ссылку заявителя на то, что в деятельность банка не входит сельскохозяйственная деятельность, поскольку собственник земельного участка должен соблюдать нормы действующего законодательства5.
Из судебного решения следует, что собственник земельного участка должен обеспечить непосредственное использование земельного участка.
Понуждение правообладателей к непосредственному использованию принадлежащих им земельных участков в ряде случаев необходимо для достижения целей и задач государственной политики по управлению земельным фондом: повышения эффективности использования земель; охраны земель как основного компонента окружающей среды и главного средства производства в сельском хозяйстве при обеспечении продовольственной безопасности страны1.
В этой связи обращает на себя внимание вывод Линды А. Мэлоун. Проанализировав развитие американского законодательства в сфере землепользования, она отмечает: «Сдвиг в концепции собственность как товар в собственность как природный ресурс потребовал фундаментального переосмысления конечных целей регулирования землепользования» [54].
Представляется, что переосмысление конечных целей регулирования землепользования требуется в настоящее время и отечественному законодателю, во всяком случае применительно к вопросу о сфере действия принципа обязательного непосредственного использования земельных участков.
При этом следует учесть, что без понуждения к непосредственному использованию в значительной степени возрастает риск спекуляций с земельными участками, когда единственной целью правообладания ими является игра на разнице между вложенными и вырученными денежными средствами.
Обращая внимание на отсутствие в современном гражданском законодательстве России категорий «спекуляция», «спекулятивные операции», «спекулятивные сделки», В. П. Мозолин, А. А. Рябов отмечают, что спекуляция как хозяйственная цель, к которой стремятся субъекты имущественного оборота, не просто широко распространена, она задает логику значительному числу экономических процессов [34, с. 138].
На наш взгляд, понуждать к непосредственному использованию следует тогда, когда в силу значимости деятельности, с точки зрения общественных интересов, одного факта использования земельных участков по назначению недостаточно, требуется определенный результат использования.
Причем результат планируемого использования должен быть четко определен, чего в настоящее время нет ни в отношении земельных участков, предназначенных для товарного сельскохозяйственного производства, ни в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства.
Показательны в этом плане признаки неиспользования земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности2, в соответствии с которыми об использовании земельных участков свидетельствуют, в частности, такие факты, как: проведение работ, соответствующих характеру угодья; отсутствие сорной растительности на определенной площади земельного участка и т. п.
В лучшем случае указанный подход способен обеспечить недопущение запущенности сельскохозяйственных угодий, но не эффективное использование.
По рассматриваемому вопросу есть смысл учесть опыт Республики Казахстан. Так, в соответствии с Правилами рационального использования земель сельскохозяйственного назначения Казахстана, «сельскохозяйственный товаропроизводитель поддерживает урожайность сельскохозяйственных культур на уровне средней по соответствующему району области, но не менее восьмидесяти пяти процентов от среднерайонного показателя» (п. 9)3.
Аналогичный подход – определение рационального использования земельных участков сельскохозяйственного назначения путем нормирования урожайности сельскохозяйственных культур – применен в законодательстве некоторых субъектов РФ.
Так, например, в Ростовской области критерием рационального использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения является определенный уровень урожайности основных сельскохозяйственных культур (озимая пшеница, яровой ячмень, подсолнечник, кукуруза на зерно, горох). Снижение уровня урожайности основных сельскохозяйственных культур на 15 процентов в сравнении со среднерайонными показателями уровня урожайности основных сельскохозяйственных культур является показателем нерационального использования земель1.
Правилами рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в Воронежской области установлено, что сельскохозяйственные товаропроизводители, являющиеся собственниками, землевладельцами, землепользователями, арендаторами земельных участков, должны обеспечивать урожайность основных сельскохозяйственных культур (озимая пшеница, яровой ячмень, подсолнечник, кукуруза на зерно, горох, сахарная свекла) не ниже пятнадцати процентов в сравнении со среднерайонными показателями, в соответствии с государственной статистической отчетностью (форма 29 с/х) за последние пять лет2.
Нормирование результатов использования земельных участков является существенным ограничением свободы пользования для их правообладателей, поэтому этот вопрос, как и сфера действия принципа обязательного непосредственного использования земельных участков, должны быть урегулированы на федеральном уровне.
Выводы
Отраслевые особенности отношений по использованию земельных участков, а также специфика их правового регулирования не позволяют в полной мере применить к земельному участку как объекту использования гражданско-правовое понятие «недвижимая вещь».
Земельный участок как объект использования представляет собой недвижимую вещь с регулируемым (планируемым) пределом пользования.
Устанавливая предел пользования земельным участков, государство обязывает к осуществлению разрешенного вида деятельности, руководствуясь принципами планирования и обязательного использования земельных участков, что существенно ограничивает свободу правообладателей земельных участков в осуществлении принадлежащих им прав.
В целях достижения баланса между общественными и частными интересами в сфере использования земельных участков указанные принципы в условиях демонополизации государственной собственности на землю должны получить новое содержание.
При этом важно понимать, что «свобода является продуктом режима частной собственности, а не началом создания такого режима» [52].
Следует также учесть: «Частная собственность и свобода, особенно в случае земли, находящейся в частной собственности, взаимосвязаны более сложно, чем мы обычно понимаем. Понять множество противоречивых способов, которыми собственность связана со свободой, – это понять, почему мы не можем начать с идеи свободы или с какой-либо концепции естественных прав и создать из нее работающую, морально оправданную систему частной собственности. Чтобы создать такую систему, нам нужно начинать с совершенно другого места, рассматривая различные способы, которыми частная собственность может способствовать общему благу» [52].
Список литературы Земельный участок как объект использования
- Алексеев В. А. Право недвижимости Российской Федерации. Понятие и виды недвижимых вещей: практ. пособие. М.: Юрайт, 2018. 411 с.
- Алексеев С. С. Об объекте права и правоотношения // Вопросы общей теории советского права: сб. ст. / под ред. проф. С. Н. Братуся. М.: Госюриздат, 1960. С. 284-308.
- Анисимов А. П., Землякова Г. Л. Соотношение категорий «использование земель» и «охрана земель»: дискуссионные вопросы // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. № 2 (25). С. 26-31.
- Анисимов А. П., Пандаков К. Г., Черноморец А. Е. Соотношение земельного и гражданского права: вопросы теории // Бюллетень нотариальной практики. 2009. № 5. С. 40-44.
- Аскназий С. И. Общие вопросы методологии гражданского права // Ученые записки. Серия: Юридические науки. Л.: Ленингр. гос. ун-т, Ин-т экономики, философии и права. 1948. Вып. 1, № 106. С. 3-50.
- Бар К. фон. Для чего нужно понятие земельного участка (Grundstück) и что это такое? О сложностях установления содержания понятия «вещь» в европейском вещном праве // Вестник гражданского права. 2018. № 5. С. 113-138. 10. 24031/1992-2043-2018-18-5-113-138.
- DOI: 10.24031/1992-2043-2018-18-5-113-138
- Боголюбов С. А. Соотношение правового регулирования рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды // Правовой механизм обеспечения рационального использования природных ресурсов: монография / отв. ред. Е. А. Галиновская. М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 2018. С. 60-77.
- Бринчук М. М. Соотношение экологического права с другими отраслями: проблемы теории и практики // Экологическое право. 2009. № 5. С. 8-19.
- Волков Г. А. Принципы земельного права // Актуальные вопросы государства и права в Российской Федерации и в Республике Македонии: сб. науч. ст. / отв. ред. А. Е. Шерстобитов. М.: Статут, 2006. Вып. 1. C. 375-388.
- Волков Г. А. Понятие недвижимого имущества: публично-правовой аспект // Экологическое право. 2018. № 4.
- Волков Г. А., Голиченков А. К., Козырь О. М. Постатейный научно-практический комментарий Земельного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
- Галиновская Е. А. Особенности включения земли в правовые отношения в качестве объекта // Журнал российского права. 2012. № 8. С. 105-111.
- Галятин М. Ю. США: правовое регулирование использования земель. М.: Наука, 1991. 252 с.
- Голиченков А. К. Экологическое право России: словарь юридических терминов: учеб. пособие для вузов. М.: Городец, 2008. 448 с.
- Дудин А. П. Объект правоотношения (вопросы теории). Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1980. 81 с.
- Забелышенский А. А. Земля-объект права собственности и объект хозяйства // Правовые вопросы рационального использования природных ресурсов СССР и некоторые проблемы колхозного права: сб. учен. тр. Свердловск. 1973. Вып. 26. С. 5-19.
- Забелышенский А. А. О государственном планировании использования земельного фонда СССР // Вопросы гражданского, трудового, колхозного и земельного права: сб. учен. тр. Свердловск, 1972. Вып. 18. С. 166-175.
- Землевладение и сельское хозяйство. Handwörterbuch der Staatswissenschaften: сб. ст./ пер. с нем. М.: Изд. М. и Н. Водовозовых, 1896. 383 c.
- Иконицкая И. А., Краснов Н. И., Башмаков Г. С. Концепция земельного законодательства рыночной экономики // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 1994. [Спец. вып.]. С. 183-205.
- Комментарий к Основам земельного законодательства Союза ССР и союзных республик / под ред. Г. А. Аксененка, Н. А. Сыродоева. М.: Юрид. лит. 1974. 352с.
- Краснов Н. И. Право землепользования граждан. М.: Юрид. лит. 1973. 88 с.
- Краснова И. О. Конкретизация как способ совершенствования законодательства // Lex Russica. 2016. № 6. С. 146-157.
- Крассов О. И. Земельный участок как объект природы и природный ресурс // Экологическое право. 2013. № 6. С. 8-16.
- Крассов О. И. Земельный участок - основа понятийного аппарата земельного права // Экологическое право. 2011. № 4. С. 4-12.
- Крассов О. И. Современное земельное право в свете новелл гражданского законодательства // Экологическое право. 2012. № 5. С. 7-14.
- Крассов О. И. Земельное право: учебник. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 560 с.
- Лапач В. А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. С.Пб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 544 с.
- Лукьянчиков Н. Н., Потравный И. М. Экономика и организация природопользования: учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению «Экономика». 4-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 687 с. URL: http://www. Iprbookshop.ru/52659.html (дата обращения: 14.07.2019).
- Мельников Н. Виды частей земельных участков, их правовой режим и оборотоспособность // Хозяйство и право. 2018. № 8. С. 42-53.
- Мексин А. Л. Об упразднении разделения имуществ на недвижимые и движимые // Советское право. Пг., 1923. № 3. С. 101-109.
- Минина Е. Л. Природные ресурсы: Правовое определение и содержание // Правовой механизм обеспечения рационального использования природных ресурсов: монография / отв. ред. Е. А. Галиновская. М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации, 2018. С. 44-60.
- Минина Е. Л. Правовое обеспечение рационального использования земель // Правовой механизм обеспечения рационального использования природных ресурсов: монография / отв. ред. Е. А. Галиновская. М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации, 2018. С. 207-235.
- Мисник Н. Н. К понятию земельного участка // Государство и право. 2005. № 10. С. 57-66.
- Мозолин В. П., Рябов А. А. О вертикализации предмета гражданского права // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. Вып. 4. С. 133-141.
- Нарышева Н. Г. Государственная политика и правовое регулирование земельных отношений // Экологическое право. 2016. № 3. С. 35-41.
- Петров В. В. Существует ли оптимальная модель земельной собственности для России? // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 1994. [Спец. вып.]. С. 168-172.
- Скловский К. И., Костко В. С. О понятии вещи. Деньги. Недвижимость // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 7. С. 115-143.
- Советское земельное право: учебник / отв. ред. Н. И. Краснов. М.: Юрид. лит., 1981. 464 с.
- Суханов Е. А. Вещные права в новом Земельном кодексе Российской Федерации // Экологическое право. 2003. № 1. С. 50-54.
- Суханов Е. А. Проблемы совершенствования кодификации российского гражданского законодательства // Актуальные вопросы российского частного права: сб. ст., посвященный 80-летию со дня рождения профессора В. А. Дозорцева / сост. Е. А. Павлова, О. Ю. Шилохвост. М.: Статут, 2008. 350 с. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Сыродоев Н. А. Землепользование социалистических организаций и граждан. М.: Юрид. лит.,1975. 255 c.
- Турубинер А. М. Право государственной собственности на землю в Советском Союзе. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1958. 331 c.
- Шкредов В. П. Социалистическая земельная собственность. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. 152 с.
- Чаплин Н. Ю. Понятие и особенности земельного участка как объекта гражданских прав // Журнал российского права. 2018. № 8. С. 155-161.
- DOI: 10.12737/art_2018_8_15
- Черданцев А. Ф. Понятие и функции юридической науки // Методология советского правоведения / УрГУ. Свердловск, 1978. Вып. 70. С. 3-22.
- Чубаров В. В. Развитие кодификации российского земельного законодательства (взгляд с позиций частного права) // Кодификация российского частного права 2015 / В. В. Витрянский, С. Ю. Головина, Б. М. Гонгало и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015. 447 с. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Яковлев В. Ф. Структура гражданских правоотношений // Гражданские правоотношения и их структурные особенности: сб. учен. тр. Свердловск, 1975. Вып. 39. С. 23-33.
- Burdon P. What Is Good Land Use? From Rights to Relationship // Melbourne University Law Review. 2010. Vol. 34. Pp. 708-735.
- Butler L. The Pathology of Property Norms: Living within Nature's Boundaries // Southern California Law Review. 2000. Vol. 73 [Электронный ресурс]. Доступ из информац.-аналит. системы Thomson Reuters.
- Cordes M. Property Rights and Land Use Controls: Balancing Private and Public Interests // Northern Illinois University Law Review. 1999. Vol. 19. Pp. 629-655.
- Frazier T. Protecting ecological integrity within the balancing function of property law // Environmental Law. 1998. Vol. 28. Issue 1 [Электронный ресурс]. Доступ из информац.-аналит. системы Thomson Reuters.
- Freyfogle E. Property and Liberty // Harvard Environmental Law Review. 2010. Vol. 34. Pp. 75-118.
- Freyfogle E. Ownership and ecology // Case Western Reserve Law Review. 1993. Vol. 43, Issue 4. Pp. 1269-1297.
- Malone L. Environmental Regulation of Land Use. 2018 [Электронный ресурс]. Доступ из информац.-аналит. системы Thomson Reuters.
- Sax J. Property rights and the economy of nature: understanding Lucas v. South Carolina coastal council // Stanford Law Review. 1993 [Электронный ресурс]. Доступ из информац.-аналит. системы Thomson Reuters.
- Shibata B. Land-Use Law in the United States and Japan: A Fundamental Overview and Comparative Analysis // 10 Wash. U. J. L.
- Williams N., Jr. and John M. Taylor. American Land Planning Law [Электронный ресурс]. Доступ из информац.-аналит. системы Thomson Reuters.