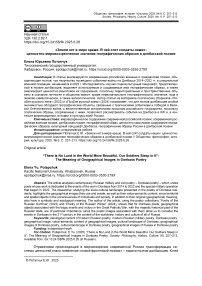«Земли нет в мире краше. В ней спят солдаты наши»: ценностно-мировоззренческое значение географических образов в донбасской поэзии
Автор: Потапчук Е.Ю.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется современная российская военная и гражданская поэзия, объединяющая поэтов, чье творчество посвящено событиям войны на Донбассе 2014–2022 гг. и специальной военной операции, начавшейся в 2022 г. Исследователь, изучая социокультурный ландшафт, представленный в поэзии донбассцев, выделяет используемые и создаваемые ими географические образы, а также анализирует ценностносмысловое их содержание, поскольку территориальные и пространственные объекты в сознании личности и общества имеют, кроме первоначального (географического) значения, еще и знаковосимволическое, а также аксиологическое. Автор статьи на материале поэтических сборников «ПоэZия русского лета» (2023) и «ПоэZия русской зимы» (2024) показывает, что для поэтовдонбассцев особой значимостью обладают географические объекты, связанные с трагическими событиями и победой в Великой Отечественной войне, с величественным историческим прошлым российского государства, поскольку поэтические образы, сопряженные с ними, позволяют рассматривать события на Донбассе в XXI в. в контексте мировоззрения, истории и культуры всей России.
Мировоззренческое содержание современной российской поэзии, современная российская военная поэзия, донбасская поэзия, географический образ, ценностно-смысловое содержание географических образов, культурный ландшафт Донбасса, географические образы России в донбасской поэзии
Короткий адрес: https://sciup.org/149148212
IDR: 149148212 | УДК: 130.2:82-1 | DOI: 10.24158/fik.2025.6.26
Текст научной статьи «Земли нет в мире краше. В ней спят солдаты наши»: ценностно-мировоззренческое значение географических образов в донбасской поэзии
Хабаровск, Россия, ,
,
относят произведения, тематически связанные с событиями войны на Донбассе 2014–2022 гг. и специальной военной операции, начатой 24 февраля 2022 г. Институционально оформилась и получила признание донбасская поэзия в 2023 г., когда вышли сборники: зимой – «Великий Блокпост. Антология донбасской поэзии 2014–2022 гг.1» и летом – «ПоэZия русского лета»2. В сентябре 2024 г. было представлено его логическое продолжение – «ПоэZия русской зимы»3.
Донбасская поэзия – понятие «скорее квазигеографическое»4, так как объединяет разнообразных и разнородных авторов, через чье творчество красной нитью проходит тема Донбасса: поэтов, родившихся и выросших на этой земле; побывавших на ней; участников войны 2014– 2022 гг. и специальной военной операции (СВО) и тех, кто своими произведениями откликнулся на донбасские события.
Сборник донбасской поэзии «Великий Блокпост. Антология донбасской поэзии 2014– 2022 гг.» включает «стихи коренных жителей Донбасса и россиян, поддерживающих выбор ДНР и ЛНР, добровольцев, военных корреспондентов», которые «объединены в единый сверхтекст категориями темы, хронотопа и образа автора» (Купина, 2023: 21).
Несмотря на «квазигеографичность», а может быть, именно поэтому, произведения поэтов-донбассцев насыщены топонимическими и географическими образами, играющими не только значительную роль в изображении донбасской земли, малой родины и Родины большой, но и участвующих в трансляции ценностных смыслов и установок не только донбасских авторов, но и всего современного российского общества. Эта «система идей и суждений», по мнению, например, В.А. Колосова, создавая образ региона, «органически становится и своего рода пространственной идеологией» (Колосов, 2008: 75), которая и отражает, и укрепляет региональную идентичность, выступает ориентиром для социально-политического и культурного проектирования и принятия управленческих решений (Колосов, 2008: 78). Так, смыслы, которыми «нагружены» отдельные точки пространства «в определенном сообществе, активно используются в практической деятельности» (Замятина, 2011: 62). Однако в случае географических образов, создаваемых и транслируемых поэтами-донбассцами, из-за «квазигеографичности» их творчества, способности отражать систему ценностных установок, родившуюся и распространяющуюся в современной России, следует отметить их двойственность: они локальны, территориально закреплены, но имеют общее значение – в масштабах всего российского общества и государства.
Авторы донбасской поэзии в своих произведениях способны менять фокус с местных географических и ландшафтных объектов на общероссийские, переходить от изображения реалий Донбасса к глобальному уровню обобщений, поскольку, с одной стороны, концентрируют внимание на региональных артефактах, предметах и деталях, а с другой – рассматривают их в контексте большой страны. «В общем виде географический образ – это совокупность ярких, характерных знаков, символов, ключевых представлений, описывающих какие-либо реальные пространства (территории, местности, регионы, страны, ландшафты и т. д.)» (Колосов, 2008: 76).
С другой стороны, ландшафт является «предметной и осязаемой средой человеческого бытия», и поэтому «не может быть осознан и осмыслен вне культурного контекста», поскольку «связь ландшафта и культуры фундаментальна и неразрывна» (Стрелецкий, 2019: 50); носители специфической системы ценностей (группа людей, этнос) территорию не только заселяют (Стрелецкий, 2019: 55), но и формируют, создают ее образ, преобразовывают и изменяют. В случае с донбасской поэзией формирование культурного ландшафта осуществляется в духовной сфере – проективно-аксиологической (Каган, 1996: 170) – отбором объектов для описания и средств их художественной презентации.
Говоря о географических образах, Е.В. Никанорова указывает, что в них принято «выделять две составляющие: пространственное (территориальное) знание и атрибутивное знание» (Никанорова, 2007: 87), то есть сведения о размещении объекта в пространстве, во-первых, и, во-вторых, субъективную оценку «характеристик мест и регионов вместе с информацией, позволяющей сравнивать различные места между собой» (Никанорова, 2007: 87), дополняющую пространственно-географическое их значение мировоззренческо-аксиологическим.
Н.Ю. Замятина подчеркивает, что вообще «образ как репрезентация концептуальной структуры вполне органичен для географии и, тем более, картографии» (Замятина, 2011: 61–62).
В.А. Колосов отмечает, что при образовании географических образов происходит своеобразное «сгущение» их символического смысла (Колосов, 2008: 77). В этом аспекте особенно интересны произведения поэтов, которые, описывая события на Донбассе, выражают свое к ним отношение упоминанием конкретных точек на карте России или иных стран, при этом насыщая образы ландшафта своего региона и страны ценностно-смысловым содержанием.
Цель данного исследования – раскрыть культурно-историческое и ценностно-мировоззренческое значение географических и ландшафтных образов современной донбасской поэзии.
Материалом для анализа послужили поэтические произведения сборников «ПоэZия русского лета» (2023) и «ПоэZия русской зимы» (2024). При исследовании представленной в них лирики использовались традиционные методы ценностно-смыслового анализа поэтического текста, а также сравнительно-исторический, контекстуальный и знаково-семиотический подходы.
«В понятии культурного ландшафта превалирует смысл, вносимый культурными элементами в природный ландшафт, и даже природные элементы рассматриваются в их отношении к человеку и его общественной жизни… В культурном ландшафте постоянно происходят процессы семиозиса, то есть элементы культурного ландшафта наделяются тем или иным смыслом» (Ищенко, 2023: 116–117).
На основании поэтических произведений сборников «ПоэZия русского лета» и «ПоэZия русской зимы» можно выделить артефакты, территориальные и пространственные объекты, ставшие географическими образами донбасской поэзии, а также их ценностно-смысловое значение, которое они обрели в процессе осмысления их авторами и транслируют аудитории.
Курган Саур-Могила – один из центральных образов культурно-исторического ландшафта донецкой земли, к которому постоянно обращаются поэты-донбассцы, поскольку в нем напластовываются отсылки сразу к нескольким историческим эпохам и событиям, чрезвычайно значимым для идентичности россиянина. У В. Маленко в «Катюше» в духе преемственности российских поколений читаем: «… вновь / Саур-Могила / флагами Победы / расцвела»1.
Б. Бергин, описывая сражения, развернувшиеся на донецкой земле в XXI в., в качестве знакового места называет не только Саур-Могилу, но и мемориальный комплекс «Острая могила» («…А вокруг могилы – Саур ли, Острая, / И здесь плавится сталь, а живое убить непросто вот…»2, «На краю», 2019).
Е. Заславская в стихотворении «На Саур-Могиле» (2016) строчками «На Саур-Могиле / Опять его убили… / Как в страшном 43-м, / Уже в другом столетье. / Там, где отцы и деды / Сражались за победу, / Он там же пал, он с ними / Теперь в одной могиле»3 не только передает всю катастрофичность войны на Донбассе 2014–2022 гг., но и подчеркивает преемственность и духовную связь нынешнего поколения с предками – участниками Великой Отечественной войны. В этом же произведении поэт указывает на ценностные установки и мотивы защитников Родины – сегодняшних и прошлого века – их любовь к родным и родимым местам, к Отчизне: «Земли нет краше. / В ней спят солдаты наши»4.
О. Старушко в стихотворении «Две вершины», используя образы Саур-Могилы и Матвеева кургана5, тоже подтверждает межпоколенческую связь защитников Отечества. Ее поражает схожесть развернувшихся сражений прошлого и нынешнего веков на донецкой земле и за нее: «Война… в год какой? А век какой?»6.
В историко-географических образах дает оценку происходящим ныне на донбасской земле событиям М. Замшев в стихотворении «В Петербурге бывая…», упоминая не только славную победу русской армии под Полтавой, но и предательство гетмана И.С. Мазепы («…Как писать о великом Петре, я не ведаю больше, / Если снова Полтава не наша и тень от Мазепы / Застилает нам небо. Давайте придумаем скрепы, / Чтобы время Петра прикрепилось к текущему…»7).
В стихотворении М. Лешкевича в качестве исторической вехи и ценностного ориентира упоминается Очаков – город-крепость, сыгравший важную роль в истории российского государства и ставший одним из горячих мест в нынешнем военном противостоянии. Предугадывая его судьбу, поэт пишет: «Был Очаков – будет и кровь, и ров»8.
Отождествляются бойцы-донбассцы и с русскими воинами – участниками Бородинского сражения 1812 г.: «Работино – навек Бородино»9 (И. Караулов, «Работино сработано под нуль…»).
В качестве духовного маяка выступают для поэтов-донбассцев страницы истории Севастополя и Малахова кургана: «С моряками орудия эти на берег сошли / и держали Малахов курган до последних отрядов. / Их отсюда тащили враги после Крымской войны / как трофей: до колоний, до самых канад и австралий. / И спасая, тогда корабелы родной стороны / вместо кнехтов стволы у разбитых причалов вкопали»1 («Корни», О. Старушко). Очень показательно, что это стихотворение О. Старушко, посвященное отлитым на луганских заводах пушкам системы Гаскойна, применявшимся в ходе Крымской войны, называется «Корни», поскольку эти экспонаты связывают воедино события российской истории, указывая на основания – «корни» – транслируемой системы ценностей: патриотизм всех поколений защитников России.
В традициях лирики Великой Отечественной войны в поэзии донбассцев малая Родина разрастается до размеров огромной Отчизны – России2, поэтому бои на Донбассе воспринимаются как сражение за Отечество, за русскую культуру и Русский мир, за традиционные и вечные ценности. В связи с этим В. Маленко, описывая мотивы защитников, сопоставляет донбасские события с Великой Отечественной войной: «Теперь до Победы стой / За Дальний Восток! / За Донецк! / За Оршу! / За русский язык родной!» («Носи как маленькую икону»)3. Продолжается отождествление защитников Донбасса с участниками Великой Отечественной войны в его же стихотворении «Ржев», отсылающем к ржевскому Мемориалу советскому солдату, открытому в 2020 г.: «Мы весной поднимаемся в полный рост, / Головами касаясь горячих звезд. / И сражаемся снова с кромешной тьмой, / Чтобы птицы вернулись сквозь нас домой… Вася, Паша, / Сережа, Егор, Рашид… / Среднерусской равнины пейзаж расшит / Нами, в землю упавшими на бегу… / В небеса мы завернуты, / как в фольгу. / Вам труднее, потомки, в засаде дней, / Наша битва с врагами была честней. / Мы закрасили кровью колосья ржи, / А на вас проливаются реки лжи»4.
Таким образом, топонимика России – Ржев, Саур-Могила, Матвеев курган, Донецк и иные, памятные своими кровопролитными сражениями Великой Отечественной войны места, – не только связывает идеалы защитников страны – современных и 1941–1945 гг., но и участвует в утверждении системы ценностей нынешней России, среди которых первостепенны: независимость, гражданственность, приверженность традициям, национальная гордость и культура.
В культурно-исторический ландшафт донбасской поэзии включен и «Милый Белгород, русский воин…»5 («Белгороду от Донецка», И. Кучерова), поскольку этот российский город снова принимает на себя удар: «В нашей памяти 45-й, / Та Победа, весна, солдаты, / Будет подвиг тобой удвоен (Курсив автора. – Е.П. ), / Славный Белгород, русский воин». Наряду с Ржевом и Сталинградом (В. Маленко, «Что такое победа)6 на поэтической карте донбасских поэтов появляется Санкт-Ленинград (Г. Титов, «Был и Новый год…»), поскольку названия этих трех городов для россиян означают и страдания, и мужество, и стойкость, и победу в Великой Отечественной войне. Об этом В. Маленко в стихотворении «Я для вышедших вон…» говорит так: «Нам пора прекратить / на себя пенять, / Ленинград на Петербург… Чтоб зайти не страшась / в этот русский дым»7.
Многие поселения на карте многострадальной донецкой земли – это места, где развернулись кровопролитные сражения уже в этом столетии, поэтому изображение родных городов и поселков у донбасских поэтов превращается в зарисовки трагических военных событий. Ю. Волк в своем произведении «Героям битвы за Бахмут» (2022) использовал название города Бахмута – Артемовска в качестве звукописи в зарисовке смертельного боя: «Налетят вихри адовой ночи, / Все сметают, сжигают и мнут. / Пулемет непрерывно стрекочет: / За – Бах – мут, за – Бах – мут, / за – Бах – мут… А придется, тогда под разгрузкой / У бойца до последних минут / Сердце будет стучаться по-русски: / За – Бах – мут, за – Бах – мут, / за – Бах – мут»8.
Закономерно, что в поэтическом мире А. Долгаревой Донец становится Стиксом и Смородиной: «Над рекой Донец, над рекою Стикс, над рекой Смородиной, / Где навсегда кончается ад»9 («Стой, Россия, за мальчиков этих…») и «…и я шагаю на ощупь, / как кура в ощип, / туда, где всему приходит конец, / туда, где в реку Стикс впадает река Донец»10 («сколько дождем не замачивай…»). Появление мифологических рек в поэтической топографии Донбасса передает всю трагедию развернувшихся событий на его земле, поскольку огненная зловонная Смородин – это река, разделяющая миры живых и мертвых1, а Стикс, как известно, в древнегреческой мифологии – река мертвых2.
Многочисленные географические образы донбасской земли (Мариуполь, Авдеевка (город получил среди военных прозвище «Авдос»), Углегорск, Славянск, Попасная, Зуевка, Донецк, Горловка, Каховка, Макеевка, Луганск, Волноваха, Красный Лиман, Верхний Ларс, Изюм, Шахтерск, Северный Донец, Азовское море и др.) включаются в пространство российской земли, поэтому, например, неожиданно «два берега – Донца или Невы»3 (А. Антипов «Сидишь в кафешке…») становятся берегами одной русской реки, а малая родина в очередной раз разрастается до огромной России.
Рекам в поэзии донбассцев отводится значительное место. Видимо, таким образом авторы осмысливают проблему человеческого взаимодействия, символом которого и выступают водные артерии – естественные пути коммуникации. Образы российских рек объединяют обширное пространство России в целостность, например, у И. Караулова в стихотворении «Какие-то реки, какие-то сны…» «….реки у нас под крылом: / то Вычегда, то Магаданка… Внизу проплывает отец-Енисей, / а дальше – строптивая Лена»4.
Города и поселки Донбасса мыслятся частью большой России «от Крыма до Нарыма»5 (Д. Мурзин «Что в Европе…»), «бескрайней страны, / от Калининграда до Хабаровска» (А. Ревякина, «21 грамм»)6.
В отечественной науке особый интерес к универсальному концепту «Родина» «обозначился в 90-е годы прошлого века, что обусловлено … разрушением “большой родины” СССР и необходимостью нового осмысления национальной идентичности, русской и российской этнокультурной специфики» (Пономарева, 2015: 115–116).
В русском языке фиксируется два основных значения лексемы «родина»: «родная страна» – «Родина», «большая страна»; место рождения / жительства / происхождения – «малая родина» (Пономарева, 2015: 116). «Константа “родная земля” … является базовой для русского самосознания и основополагающей в содержании концепта Родина» (Пономарева, 2015: 116).
В этом смысле очень интересен процесс «разрастания» малой родины – селений Донбасса, близких и родных для поэтов-донбассцев – до большой Родины – России с ее столицей Москвой. Именно об этом – произведение М. Ватутиной «Космос», где «персональный космос» представляется, во-первых, родным домом, где «уже уснула под бомбежку мама», во-вторых, родными Кре-менной, лугом и ветром, которые защищает с оружием в руках боец с позывным Космос, в-третьих, «ландшафтом» от «Мурмáнска до Приморья, до Камчатки», и, наконец, Москвой, которая «дороже звезд и Млечного моста, / где я одна, как перст, но в центре света, / Внутри народа. Это ли не та / Вселенная, где одиночеств нету»7, где родным мыслится все пространство России, и особым – значимым, своим – городом представляется ее столица – Москва. Отправляясь в последний полет, клин знаменитых переосмысленных А. Пелевиным гамзатовских журавлей оглядывается и видит: «Позади Москва, Садовая-Кольцевая, / А у нас тут теперь с тобой ни кольца, ни края, / А мы, говорит, превращаемся в журавлей, / Это из старой песни, хорошая песня, летим быстрей, / Смотри, мы ведь тоже летим V-образным клином…»8 («Превращаясь в белого журавля…»).
В боях за донецкую землю плечом к плечу оказываются «пацаны из Самары, / Из Уфы и Москвы»9 (А. Долгарева «В бесконечной болтанке…»). Поэт Е. Годвер зарисовывает это возникшее в сражениях на донецкой земле новое единство россиян: «Иноземная литера / Впредь на наших руках. / Кто с Москвы, кто из Питера, / Из мордовских ИК – / Мы родное отстаиваем, / Возвращаем назад: / От царя – и до Сталина, / И до самых Карпат»10. Этот новый образ Родины начинает обретать не только новые географические очертания, но и ценностно-смысловые. Так, Е. Заславская в своем стихотворении «Новая заря»11 называет «русскую землю» «Третьим Римом», что, безусловно, указывает на духовные доминанты автора.
А. Долгарева в стихотворении «Сколько дождей ни замачивай…»12 стягивает в единство пространство, Родину и ценности, соединяя реки Днепр, Волгу, Неву, Донец, и утверждая: «В вышине над Херсоном, Осколом, Донцом – / Бесконечные русские звезды»1 («И упала звезда…»). Именно у нее в произведении «Гореть» «Мордва, карел, бурят, чечен, калмык – / Едино русский воин»2 символизируют родившееся российское единство, где «видна Россия от конца и до края»3, поскольку для А. Долгаревой, как и для всех донбасских поэтов, Родина, земля, территория, точки на карте – это прежде всего люди, народы, их истории и единая историческая судьба.
В свои произведения поэты Донбасса вплетают социокультурные образы, которые отражают представления русского общества об идеальном устройстве русского мира. Так, на страницах указанных поэтических сборников встречается упоминание не только Третьего Рима, но и Китеж-града. Конечно, эти образы лишь условно можно отнести к географическим: они, скорее, являются точками ландшафта русской души, и именно в них в концентрированном виде хранится социокультурный опыт и этические стандарты россиян. Если в идее «Москва – Третий Рим» России и ее столице отводится «миссионерская роль оплота истинной веры и потенциал мирового центра силы, наследующего былое римское могущество» (Тедеева, 2021: 120), то тайный русский Китеж-град – невидимый мистический город праведников, хранимый святыми, ставший недоступным для врага, – это «топос, где мистическая Церковь формирует богочеловеческий социум», он «определяет русский народ… как бегущий к невидимому Граду», образуя «новую социальную реальность народа иного порядка, ассоциированную со святыми и праведными и переживаемую в актуальном опыте богоприсутствия» (Михайловский, 2019: 93). В стихотворении М. Ватутиной «Родина» именно Китеж-град выступает в качестве желаемого будущего, идеала для России, о которой говорится: «Ты Китежем всплывешь, восстанешь птицей Феникс, / Воскреснешь, воссияв, – до нового креста»4.
Итак, географические образы в донбасской поэзии, представленной в сборниках «ПоэZия русского лета» (2023) и «ПоэZия русской зимы» (2024) отражают особенности и социокультурного ландшафта, и аксиологических оснований мировоззрения современных донбассцев и россиян. Внимание поэтов направлено на те точки их родной земли, которые указывают на связь поколений, преемственность защитников Отечества – нынешних и Великой Отечественной войны, такие как Саур-Могила, Острая могила, Матвеев курган и иные, подчеркивая тем самым характер и смыслы войны 2014–2022 гг. на Донбассе и начатой в 2022 г. специальной военной операции как защищающих русских и россиян, русские земли, язык, культуру и ценности Русского мира. Именно поэтому авторы сборников «ПоэZия русского лета» и «ПоэZия русской зимы», вспоминая, например, Крым, Вязьму (И. Купреянов, «Бессмертный полк», 2015)5, Сталинград, Ленинград, Ржев, Оршу и Брест6, где проходили кровопролитные сражения Великой Отечественной войны, часто сопоставляют военную работу, смерть и подвиги участников войны 1941–1945 гг. и современных защитников Донбасса.
Культурно-исторический ландшафт донбасских поэтов включает в себя также географические точки, отмеченные в российской истории как героические и победные, среди них – Полтава, Очаков, Бородино, Малахов курган и др., при этом происходит вовлечение донбасских земель и событий XXI в. в единое географическое и историческое пространство России, в лирике донецких поэтов города и селения Донбасса («малая родина») мыслятся как часть единой большой Родины.
Таким образом, ландшафт в поэзии донбассцев имеет социально-культурное и историческое значение, его образы транслируют представления о системе духовных координат не только самих авторов, но и российского общества на современном этапе. Понимая это, Д. Филиппов в своем произведении «За терриконом» (2023) заключает «Все схлынет, как волна, и будет так: / закончится война (допустим, в марте). / Водяное, Авдеевка, Спартак / Останутся лишь точками на карте. / Останутся зарубками в душе…»7.