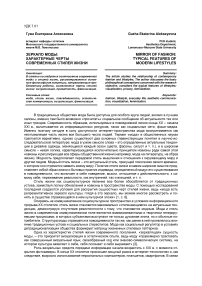Зеркало моды: характерные черты современных стилей жизни
Автор: Гужа Екатерина Алексеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 12, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется соотношение современной моды и стилей жизни, рассматриваются основные философские концепции, затрагивающие проблематику работы, выявляются черты стилей жизни: визуализация, приватность, феминизация.
Мода, стиль жизни, повседневность, эстетическая коммуникация, визуализация, феминизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14940808
IDR: 14940808 | УДК: 7.01
Текст научной статьи Зеркало моды: характерные черты современных стилей жизни
В традиционных обществах мода была доступна для особого круга людей, вхожих в лучшие салоны, именно там было возможно «прочитать» социальное сообщение об актуальности тех или иных трендов. Современность образцов, используемых в повседневной жизни конца XX – начала XXI в., вычитывается из информационных ресурсов, таких как социальные сети, фэшн-медиа. Именно поэтому сегодня в силу доступности интернет-пространства мода воспринимается как неотъемлемая часть жизни все большего числа людей. Термин «мода» в общественных науках трактуется вариативно, однако существуют два основных главенствующих понятия в научно-исследовательской литературе: мода в узком смысле слова – это определенные актуальные тенденции в дизайне одежды, меняющиеся каждый сезон (цвета, фасоны, силуэт и т. п.), и в широком смысле – некая логика, характеризующаяся исключительно принципом новизны ради самой этой новизны и регулирующая все сферы общественной жизни (например, мода на литературу, на образ жизни). Модность предполагает передовой стиль мышления и отношения к окружающему миру и другим людям. Модный стиль жизни – это актуальный стиль, присущий поколению своего времени, о котором оно стремится заявить всему миру. Понятие стиля жизни в самом широком смысле представляет собой образ жизни и бытовых практик индивида, определенный модус его существования в повседневности, что включает в себя поведение, мысли, отношение к действительности, к самому себе, переживание реальности, как внутренней, так и внешней, и т. п.
Стиль жизни как социокультурное явление все более обособляется от традиционных устоев, заимствуя логику обновления и новизны в пространстве моды. С помощью исследований последней создаются условия для раскрытия сущностных черт стилей жизни, ведь «мода есть репрезентативное зеркало культуры; глядя в это зеркало, мы можем многое рассмотреть и понять в существе отражающейся в нем культурной эпохи» [1, с. 8].
Опираясь на коммуникативное социокультурное пространство в условиях информационного прорыва XX столетия, стиль жизни становится максимально «откликающимся» на актуальные тенденции, демонстрируя отсутствие резистентности к тому, что становится модным. Мода и стиль жизни в современном коммуникативном поле являются взаимосвязанными и творчески генерируемыми процессами, в которых субъектами выступают не только духовная элита, но и обычные потребители. Структура моды отражается в повседневности так же, как ранее в ней проявлялось влияние традиционных устоев и социальных стереотипов. Мода как социальный регулятор в условиях детрадиционализации общества формирует матрицу жизненных стилевых паттернов.
Одна из характеристик стилей жизни современного поколения, «зеркалящая» сущность моды, – это приоритет визуализации в эстетическом опыте, ведь моду «правомерно трактовать как совершенный визуальный язык, своеобразный код или знаково-символическую систему, на котором культура заявляет о себе, себя осознает и себя выражает» [2].
Роль визуальных средств передачи информации начала возрастать с XIX в. с момента открытия фотокамеры. В конце XX столетия произошел мощный рывок в интернет-технологиях и, как следствие, возросло использование персональных компьютеров, планшетов, смартфонов. В связи с распространением портативных интернет-устройств во всем мире и в России в частности с огромной скоростью растет количество пользователей интернета. И если в России, по данным исследовательской аналитической компании GFK, в 2008 г. процент населения, пользующегося интернетом, составил 25,4 %, то в 2015 г. эта цифра увеличилась до 70,4 %, что составляет 84 млн россиян. Основная сфера пользования связана с активностью в социальных сетях и поисковых сайтах.
Возникает культурный цифровой ажиотаж, предоставивший широкие возможности не только для распространения информационных сообщений медиарынков, но и для пользовательского участия в создании новых сообщений. Визуальная коммуникация, являющаяся наиболее эффективной в быстроте усвоения реципиентом, становится основным средством взаимодействия в информационном пространстве.
В социальных сетях наблюдается тенденция вытеснения текста изображением. Безусловно, ученые, писатели и журналисты продолжают предлагать на медиарынке монографии, журналы, книги, однако в интернет-пространстве непосредственного взаимодействия людей легко увидеть заметный приоритет визуализации. Популярность сети Instagram говорит о предпочтениях пользователей передавать картинки друг другу в качестве сообщений. В данной социальной сети есть свой язык, состоящий из хэштегов (метка, слово, перед которыми ставится знак «решетка», объединяющие сообщения по общим темам). Хэштег предельно краток, однако, наведя на него курсор, пользователь попадает в избыточное пространство связанных одной идеей изображений.
Совсем недавно блоги были основным проявлением социальных сетей, в которых пользователи могли написать в одном посте тысячи слов. С появлением Facebook и «ВКонтакте» такие посты должны были стать короче. Twitter научил пользователей вписывать всю необходимую информацию в 140 символов, а учитывая вес ссылок и вложений – и того меньше. В настоящее время наблюдается тенденция замены слов картинками, подтверждением чего стала растущая популярность социальных сетей Pinterest и вышеназванной Instagram, работающих преимущественно с фотографиями. Визуальная революция произошла не только в социальных сетях, но также и в маркетинге (если фирма не имеет активный аккаунт в Pinterest или Instagram, то это заметно сокращает конверсию продаж).
Что скрывается за визуальными образами нас самих в социальных сетях? Являются ли эти образы реальным отражением жизненных процессов? Данные вопросы затрагивают проблему поиска иного невизуального измерения постмодерновых стилей жизни. Особенность моды как знаковой системы заключается в отсутствии реального референта. Именно поэтому основой моды выступает пустота, ничто, на фоне которых разворачивается карнавальная феерия.
Проблема пустотности современного образа жизни затрагивается многими авторами, увидевшими в герое нашего времени нарциссическую личность (Х. Арендт, Э. Гидденс, Э. Кэмпбелл, Ж. Липовецки, К. Лэш и др.). Джин Твенж (Jean M. Twenge), профессор Университета Сан-Диего (San Diego State University) дает название новому поколению «Поколение “я”» (Generation Me), утверждая, что среди студентов растет процент нарциссических личностей. Мировоззрение Generation Me «захватывается» во фразах, которые мы часто слышим: «Поверь в себя», «Будь самим собой», «Ты особенный», «Я этого достойна», «Нет ничего невозможного», «Вы можете быть, кем захотите». Перечисленные выше паттерны поведения указывают на факт формирования специфической психической и социальной направленности новой личности. Бум поисков себя, поощрение веры в грандиозность личности, понимание самосовершенствования как исключительно подлинной жизни, нацеленность на иерархическую социальную структуру с постановкой всего человечества и близких людей на вторичные позиции после самого себя – все это явно отображает сдвиг в современной мифологии повседневности. В данной картине фигурирует единственный герой, стремящийся воплотить свою исключительную судьбу. Все остальные участники жизненного пространства являются средствами и фоновым содержанием для действа основной грандиозной роли героя.
Характерные черты нарциссической личности проявляются в двух аспектах. С одной стороны, это желание заявить о себе, прожить великую судьбу, доказать свою исключительность. Эти люди «характеризуются проявлением сильной потребности в любви и восхищении со стороны других людей, высоким мнением о самих себе и необычной потребностью в уважении со стороны других, стремлением идеализировать одних людей (от которых ожидают поддержку для своего нарциссизма) и презирать других (от которых ничего не ждут)» [3, с. 141]. С другой же стороны, нарцисс переживает ощущение тотального одиночества, пустоты, которое можно более ярко передать следующим описанием из практики психолога И.Ю. Млодик: «Это вакуум, пустота, всегда свистящая в тебе, всегда холодящая спину. И что бы ты ни сделал, чего бы ни добился, все проваливается в эту черную дыру. Все время есть иллюзия того, что вот-вот дыра наполнится, конечно, не чередой мелких побед и никому не нужных малых достижений, а чем-то великим. Только грандиозная победа может заткнуть эту дыру навсегда» [4, с. 198].
С одной стороны, эпидемия нарциссизма связана с современным типом культурного производства и потребления, когда информационные потоки заполняют сознание, нередко создавая иллюзию полноценной социализации. С другой же стороны, нарциссизация находит опору в специфическом подходе к воспитанию и развитию детей в условиях жесточайшей конкуренции, когда в цепочке взаимоотношений «родители – дети» последние оцениваются в сравнении с достижениями других индивидов. Последствия таких взаимоотношений проявляются в отсутствии духовного смысла и глубины жизни на уровне современного поколения и транслируются через общественные институты, такие как брак, бизнес, социальные сети, образование, СМИ и др. «Трагедия нарцисса заключается в невозможности узнать и присвоить свое подлинное “я” (или сильной затрудненности этого процесса). Отсоединение от него самого “я” создает ощущение пустоты и отсутствие опоры, что рождает в нарциссе базовую неуверенность и тревогу. Он вынужден опираться на оценки внешнего мира, а они все время противоречивы и постоянно сменяют друг друга» [5, с. 206].
На смену эпохам «великих смыслов», когда людей объединяло чувство принадлежности к предкам, сверхъестественным силам, общечеловеческой или национальной идеи, пришла эпоха «малых смыслов», пронизанных жизнью и потребностями отдельного потребителя, ведь «никакая политическая идеология более не в состоянии воспламенить толпы; постмодернистское общество больше не имеет ни идолов, ни запретов; у него нет ни величественных образов, в которых оно видит себя, ни исторических замыслов, которое мобилизует массы. Отныне нами правит пустота, однако такая пустота, которая не является ни трагической, ни апокалиптической» [6, с. 23–24]. Можно сказать, что масштабы пустоты «увеличиваются в размерах: наука, власть, рабочий класс, армия, семья, церковь, партии и т. д. уже перестали функционировать на глобальном уровне, как абсолютные и неприкосновенные институты; никто в них больше не верит, никто в них больше не вкладывает ничего» [7, с. 58].
Стиль жизни человека в вышеописанных условиях отличается акцентом на индивидуальные траектории развития. Повышается потребность в творческих занятиях, растет количество креативных профессий, в которых индивид сможет выразить свое внутреннее состояние и поделиться им с другими. Напряженность социальных контактов и желание жить по своим приватным законам побуждает людей выбирать удаленные способы работы, чему благоволит развитие ин-тернет-технологий. Постепенно человек приучается жить со своим одиночеством и пустотой. Современные сериалы, телешоу, музыка, социальные сети, психологические тренинги, фитнес-инфраструктура дают ему возможность найти способы сглаживания ударов маятника «божественный – ничтожный».
Генезис жизненных стратегий вписан в исторический контекст, направляя человеческие смыслы в новые пространства. Пожалуй, одно из относительно недавних направлений научной сферы, во многом повлиявших на становление современных социокультурных паттернов, связано с осознанием места женщины в истории. Отличительные черты современной моды как социальной нормы проявляются в принципиальном отрыве от традиций, относительной мягкости санкций, ориентире на изменчивость и обновление. Мода, которая часто создавалась «феминными» личностями, неважно, мужчинами или женщинами, обладала нераскрытым потенциалом на фоне патриархальных устоев, в условиях которых она ассоциировалась с несерьезностью, глупостью, чем-то вторичным. Такой же фатум преследовал другие проявления женственности, к примеру, такие как театры, поэзия, мюзиклы, танцы, домашнее хозяйство, материнство, в сравнении с более «серьезными» сферами жизни, такими как политика, армия, наука, законы, мораль. Одним из первых обнаруживших порабощение природы женского начала был Ф. Ницше, осознавший «ложь тысячелетий», которая состояла прежде всего в той «неслыханной тирании разума и морали» (К. Свасьян), которая вытеснила из культуры «тело и жизнь» [8, с. 71]. Постмодернистская мысль в дальнейшем также обусловила переосмысление женственности с помощью отказа от бинарных оппозиций, ликвидации субъект-объектных отношений, принятия полиморфизма социокультурных явлений (М. Фуко, Л. Витгенштейн). В результате отказа от сепаратизма в культуре у общества появилась возможность принять и проявить интерес к иным нетрадиционным путям познания и развития человечества. Мода выступает одним из важнейших социальных регуляторов, гармонично функционирующих в условиях феминизации и тесно с ней связанных. В ситуации унифицирования иерархии социальных норм мода способствует развитию женской культуры, которая принципиальным образом начинает преобразовывать повседневность и которая «ныне все более осмысляется как ведущая созидательная сила: в распадающемся постмо- дернистском обществе женщины фактически становятся единственными носителями фундаментальных функций по поддержанию его жизнедеятельности, прекращение которых немедленно приведет к агонии» [9, с. 15].
Принадлежность женственности к конкретному полу оставалась незыблемой до середины XX столетия, когда формируются гендерная методология и исследование гендерных проблем. Появляется термин «гендер», который отличается от понятия «пол», являющегося биологической категорией (физиологические особенности строения тела и функционирования гормональной системы). Гендер означает социокультурный «маскулинный» или «феминный» набор образцов поведения в условиях определенной общественной структуры, «социальные и полоролевые функции, которые выполняются обоими полами вследствие сложившихся социальных традиций и доминирующих культурных норм и стереотипов» [10, с. 21]. Существенный вклад в исследование гендерных ролей внесла американский антрополог Маргарет Мид. Исследуя примитивные племена (ара-пеши, мундугоморы и чамбули), она обнаружила смешение женских и мужских функций относительно пола: «Традиционно относимые к “феминным” свойствам темперамента… пассивность, чуткость, готовность нянчиться с детьми в одном племени могут оказаться присущими “маскулинному” типу поведения, а в другом считаться ненормальными как для женщин, так и для мужчин. Таким образом, основа для связывания этих поведенческих черт с половой принадлежностью размывается» [11, с. 189]. И далее М. Мид добавляет: «Нужно признать, что за поверхностным делением людей по признакам расы и пола скрываются одинаковые потенциальные возможности, передающиеся из поколения в поколение, но пропадавшие втуне, потому что общество не предусматривало условий для их реализации» [12, с. 190]. Бинарные гендерные системы нередко функционируют иерархично на основе отношений власти и подчинения. В традиционных обществах данная структура полоролевого взаимодействия настолько укоренилась, что субъекты этих отношений воспринимают ее как естественную. Однако «сегодня мы наблюдаем универсальный процесс срывания масок “природного” с “историко-культурных” образований, выяснения механизмов “прирастания” этих масок к “лицам” социальных субъектов» [13, с. 47].
Постмодернистская деконструкция ставит под сомнение традиционно нерушимое превосходство маскулинности над феминностью патриархальных обществ, предлагая нивелировать однозначную альтернативность и бинарность гендерных паттернов. Человечество перерастает этап своего естественного состояния, культура раскрывает тайну, что «нет трансисторической человеческой природы, а есть исторические формы ее существования» [14, с. 58]. Однако трактовка женственности через дихотомии «инь/ян», «анима/анимус», «пассивность/активность», «чувства/разум» ограничивает ее проявление. «На самом деле нет жесткого разрыва между чувствами и разумом… “чувства” также имеют большой познавательный потенциал, не уступающий по своей значимости “мысли”, и… женщина часто бывает умна чувством, то есть в женском мышлении нисколько не меньше разумного начала, чем в мужском – просто это начало у нее неотделимо от чувств» [15, с. 60].
Психология характеризует женственность как цельность, синтез, слитость с миром, действие в пространстве «я есть ты» (Э. Мольтманн, С. Раддик, Дж. Бенджамин), что «предполагает отказ от поляризации субъективного и объективного, внешнего и внутреннего, активного и пассивного, эмоционального и рационального, сознания и интуиции» [16, с. 66–67].
Феминизация культуры проявляется в двух основных аспектах. Первый аспект выражается в росте доли женщин, проявляющих активность в традиционно признанных «маскулинных» сферах, таких как политика, наука, право, мораль. Наблюдается готовность общества принимать «феминных» лидеров, которые начинают пользоваться даже большей популярностью (например, Хиллари Клинтон в США, Ангела Меркель в Германии, Тереза Мэй в Великобритании). Начинают открываться факультеты, департаменты исследования женской культуры (Women’s studies). Второй аспект проявляется на глубинном уровне и выражается в трансформации культурных ценностей и смене жизненных приоритетов общества. В сущностном смысле этот аспект означает раскрытие потенциала опыта приватного в социальной структуре. Подобного рода женской проекцией будет утверждение норм выбора сексуального поведения в частной жизни. Феминизация раскрывается в угасании интереса людей в их жизни к политическим, публичным событиям и в открытом интересе к духовным практикам, йоге, телесности, разнообразным формам искусства.
Стиль жизни в условиях современности стремительно трансформируется под влиянием коммуникативных и интеллектуальных культурных направлений. Вектор выбора и развития связан с «трендовостью» тех или иных явлений, движущейся в пространстве моды, что означает открытость общества и стилей жизни передовым и актуальным формам существования. История порождает новые условия проживания жизни индивидов, на которых отмечено воздействие визуального типа потребления, феминистической культуры. Внутренним срезом индивидуальной жизни становится переживание утраты, тоски или пустоты, которая погружает в себя нового человека на фоне невиданной грандиозности науки и техники. Рассмотренные три аспекта преломления моды как социокультурного феномена и социального регулятора в пространстве повседневности тесно взаимосвязаны и формируют тот уникальный колорит современной жизни, с которым человечество столкнулось в начале нового тысячелетия.
Ссылки:
-
1. Баранов Г.С., Родионова Г.Д. Мода и гендер в эпоху постмодерна. Кемерово, 2006.
-
2. Там же. С. 8.
-
3. Лейбин В.М. Психоанализ : учеб. пособие. 2-е изд. СПб., 2008.
-
4. Млодик И.Ю. Пока ты пытался стать богом… Мучительный путь нарцисса. М., 2009.
-
5. Там же. С. 206.
-
6. Липовецки Ж. Эра пустоты: эссе о современном индивидуализме / пер. с французского В.В. Кузнецова. СПб., 2001.
-
7. Там же. С. 58.
-
8. Брандт Г.А. Природа женщины. Екатеринбург, 2000.
-
9. Баранов Г.С., Родионова Г.Д. Указ. соч. С. 15.
-
10. Там же. С. 21.
-
11. Фридан Б. Загадка женственности. М., 1994.
-
12. Там же. С.190.
-
13. Брандт Г.А. Указ. соч. С. 47.
-
14. Там же. С.58.
-
15. Там же. С.60.
-
16. Там же. С. 66–67.
Список литературы Зеркало моды: характерные черты современных стилей жизни
- Баранов Г.С., Родионова Г.Д. Мода и гендер в эпоху постмодерна. Кемерово, 2006.
- Лейбин В.М. Психоанализ: учеб. пособие. 2-е изд. СПб., 2008.
- Млодик И.Ю. Пока ты пытался стать богом. Мучительный путь нарцисса. М., 2009.
- Липовецки Ж. Эра пустоты: эссе о современном индивидуализме/пер. с французского В.В. Кузнецова. СПб., 2001.
- Брандт Г.А. Природа женщины. Екатеринбург, 2000.
- Фридан Б. Загадка женственности. М., 1994.